2018 год № 1
Неврология и психиатрия
2Сибирский федеральный университет, 660041, пр. Свободный, 79, г. Красноярск
Резюме:
Ключевые слова:
2Siberian Federal University, Krasnoyarsk
Summary:
Key words:
Введение |
 |
 |
Уголовно-исполнительная система РФ со времени принятия в 2010 году Концепции ее развития претерпела существенные изменения [10], поскольку среди прочего предполагается полноценное развертывание сил и средств психологической службы, оказания психиатрической помощи, направленных, в том числе и на решение проблемы аутоагрессивного поведения лишенных свободы лиц. Тем не менее, среди представителей спецконтингента в пенитенциарных учреждениях повсеместно (в следственных изоляторах, тюрьмах, колониях и воспитательных центрах) распространено аутоагрессивное поведение, как имеющее целью лишение себя жизни, так и без цели самоубийства, в том числе среди лиц, страдающих зависимостью от различных психоактивных веществ [2, 3, 6, 7, 9]. Причем в последнее десятилетие преобладает неблагоприятная тенденция суицидального поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, с неуклонным увеличением количества суицидов в пенитенциарных учреждениях [4]. Лицам, злоупотребляющим психоактивными веществами, свойственно как целенаправленное агрессивное поведение, так и экспрессивные реакции в виде ненаправленной разрядки эмоционального напряжения в неожиданных поведенческих актах, в том числе в условиях патологической агрессии вызванной фрустрацией [1, 8]. Фрустрация, являющаяся следствием воздействия на лишенного свободы совокупности всех факторов пенитенциарной среды, проявляется наряду с различными поведенческими реакциями и в виде аутоагрессивных [5]. Особую категорию аутоагрессантов составляют больные опийной наркоманией.
Цель исследования - изучение фрустрационных факторов аутоагрессивного поведения больных с зависимостью от опиатов с учетом распространенности, структуры аутоагрессии среди лиц, подвергнутых социальной изоляции в исправительных учреждениях Красноярского края.
Материалы и методы
|
 |
 |
Изучена официальная информация о случаях аутоагрессивного поведения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Красноярского края. Проанализирована деятельность сотрудников пенитенциарных учреждений по профилактике аутоагрессии, в том числе по оценке риска суицидального поведения. Проведен анализ факторов риска аутоагрессии у осужденных к лишению свободы больных опийной наркоманией (группа сравнения - лица без наркологической патологии). Использованы клинический, клинико-психопатологический методы, методы социально-психологического исследования и статистико-математического анализа.
Результаты и обсуждение
|
 |
 |
Криминальный опыт наряду с социальным статусом (наличие детей, родителей и уровень коммуникации с ними; уровень конформности в социальной группе до осуждения) является одним из критериев, определяющих адаптационные способности личности и непосредственно влияющих на формирование ее аутоагрессивного поведения. Однако, характеризуя криминальную субкультуру лиц, отбывающих наказание на территории Красноярского края, необходимо отметить, что при некотором снижении общего количества содержащихся в 42 пенитенциарных учреждениях лиц от 25 780 в 2012 году до 23 659 в 2015 году, распределение по месту содержания и составам преступления не претерпевало существенных изменений. Значительная часть осужденных отбывает наказание за преступления против жизни и здоровья (убийства - 30-32 %, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 6-7 %), преступления против собственности (кража 16-17 %, разбой 7-8 %, грабеж 5-7 %), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (25-27 %). Более половины содержатся в исправительных колониях (55-56 %), в колониях-поселениях - 16-17 %, в лечебных учреждениях до 11 %, в тюрьмах 3-4 %; в следственных изоляторах находится 14-15 %.
Пенитенциарные учреждения Красноярского края расположены от Заполярного круга до границ республик Тыва и Хакасия, являются наиболее технически оснащенными в уголовно-исполнительной системе, с круглосуточным наблюдением со стороны сотрудников режима, что играет существенную роль в обеспечении безопасности спецконтингента на территории учреждения и профилактики фактов аутоагрессии. Несмотря на то, что видеонаблюдение за жизнедеятельностью вызывают внутреннее и внешнее сопротивление, противодействие, раздражение, аутоагрессию, необходимо отметить, что количество регистрируемых актов деструктивного поведения имеет тенденцию к снижению (от 15 до 12 случаев на 1 000 человек), и эти показатели ниже средних по России (рис. 1).
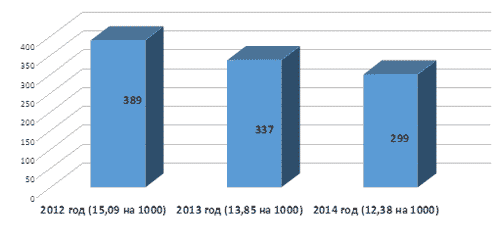
Рис. 1. Общее число актов деструктивного поведения в пенитенциарных учреждениях Красноярского края (2012-2014 гг.)
Показатели числа актов завершенного суицида (от 0,21 до 0,45 на 1 000) также ниже общероссийских. Высокий уровень суицидальности в 2012 году можно связать с увеличением числа этапированных лиц в 2011 году. Поскольку, с одной стороны, перемещение из учреждения в учреждение разрушает сложившиеся социальные связи, требует повторной адаптации к другим осужденным и сотрудникам, является дополнительным стрессом, а, с другой стороны, нарушает преемственность профилактического наблюдения. В последующем происходит снижение показателя практически до уровня 2009-2010 гг. Однако показатель попыток суицида в 2014 году имеет вновь негативную динамику (рис. 2). Причем с учетом количества лиц, содержащихся в следственных изоляторах, можно говорить о некотором преобладании суицидентов среди подследственных и подсудимых, нежели отбывающих назначенное наказание. Чаще в связи с переживанием ситуации ареста, утраты социального статуса и др. В заключениях служебных проверок фигурируют "спонтанно возникшая аффективная реакция, личностная особенность осужденного, обусловленная импульсивным поведением и непредсказуемостью, а также склонность к суицидальному поведению".
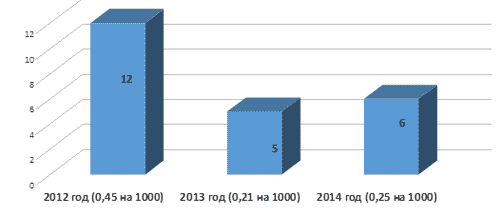
Рис. 2. Случаи завершённого суицида в пенитенциарных учреждениях Красноярского края (2012-2014 гг.)
Внедрение комплексной программы по профилактике суицидов, включающей выявление факторов риска суицидального поведения, повышение осведомленности о лицах, склонных к деструктивному поведению, улучшение профессиональной подготовки персонала, повышение ответственности сотрудников за качество профилактической работы оказалось результативным. При анализе показателей по иным видам деструктивного поведения выявляется достаточно четкая тенденция к снижению: отказы от приема пищи - от 3,5 на 1 000 (2013 год) до 2,2 на 1 000 (2014 год) и самоповреждения - от 11,2 на 1 000 (2012 год) до 9,7 на 1 000 (2014 год). Необходимо отметить, что подавляющее большинство (до 88 %) лиц, совершивших самоповреждения или отказывающихся от пищи, ранее уже были судимы, при этом количество случаев самоповреждений существенно превышает число лиц, их совершивших, поскольку некоторые осужденные совершают самоповреждения от 2 до 5 раз. Для них аутоагрессия является стереотипной реакцией на ситуации конфликта. Остальные (до 16 %) в условиях изоляции оказались впервые (и до 80% из них демонстрировали аутоагрессивное поведение именно в следственном изоляторе),
Максимальная аутоагрессивная активность (до 70 %) наблюдается при нахождении в условиях изоляции от 1 года до 3 лет, в пределах 20 % - от 3 до 5 лет и наименьший показатель (до 10 %) при изоляции от 5 до 7 лет. В 63-65 % случаев совершают демонстративно-шантажные аутоагрессивные поступки лица, отбывающие наказание за преступления против собственности, в 23-24 % случаев - совершившие преступления против жизни и здоровья, 10 % - преступления против незаконного оборота наркотиков, в 4 % случаев - преступления против половой свободы и неприкосновенности личности. До 85 % аутоагрессантов - осуждённые в возрасте моложе 30 лет. 75-78 % - мужчины. Однако с учетом того, что численность содержащихся в пенитенциарных учреждениях края мужчин практически эквивалентно превышает количество женщин, различие показателей аутоагрессивной активности в расчете на 1 000 человек не достигает уровня достоверности.
Анализируя акты несуицидального аутоагрессивного поведения с учетом вида режима социальной изоляции, были получены следующие данные.
- Следственные изоляторы: от 10 % (отказ от пищи) до 21 % (самоповреждения);
- Колонии-поселения: 17 % и 12 % соответственно;
- Исправительные учреждения общего режима: от 2 % (отказ от пищи) до 18 % самоповреждений;
- Исправительные учреждения строго режима - около 40 %.
- Тюрьмы: 14 % и 8 % соответственно.
Причем в 63-68 % случаев самоповреждения совершаются в запираемых помещениях запрещенными предметами. В 83 % случаев совершаются в дневные и вечерние часы, достоверно реже ночью и утром (рис. 3).
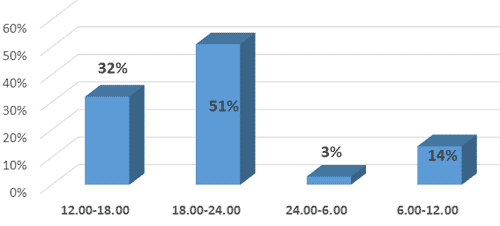
Рис. 3. Время совершения деструктивных актов в пенитенциарных учреждениях Красноярского края (2012-2014 гг.)
Наиболее распространенными способами членовредительства являются порезы предплечий и иных частей тела (до 76 % случаев в 2014 году), введение инородных тел под кожу и проглатывание (до 47 % в 2013 году) и иные способы - удары головой о стену, зашивание рта и др. - до 5 % в 2012 году (таблица).
| Год | Порезы | Проглатывание и введение под кожу инородных тел | Иные |
|---|---|---|---|
| 2012 год | 72 % | 23 % | 5 % |
| 2013 год | 60 % | 47 % | 3 % |
| 2014 год | 76 % | 21 % | 3 % |
Большинство случаев аутоагрессивного поведения носит демонстративно-шантажный характер с целью получения послабления режима содержания, воздействия на администрацию, извлечения вторичной выгоды.
1. Уклонение от законных требований и распорядка учреждения - до 53 %.
2. Личная защита от посягательств со стороны других осужденных - около 10 %.
3. Улучшение условий отбывания - около 30 %.
4. Подражание опыту других осужденных, сумевших путем членовредительств достичь определенных преимуществ - до 7 %.
При совместной работе психологической и медицинской службы установлено, что более половины осужденных, совершивших акты аутоагрессии, состояли на профилактическом учете у психолога, как склонные к суициду - от 68 % в 2012 году до 61 % в 2014 году. Причем от 69 % до 72 % от общего числа аутоагрессантов ранее уже совершали подобные акты.
Стоит отметить, что от 39 до 54 % аутоагрессантов динамически наблюдались у врача психиатра с различными психическими расстройствами, из которых основными выступают расстройства личности, умственная отсталость и органические поражения головного мозга (рис. 4). Их повышенная эмоциональная возбудимость, сниженный самоконтроль, агрессивность, импульсивность действий усложняет и снижает эффективность профилактической работы.
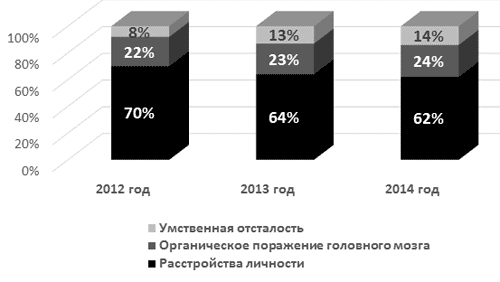
Рис. 4. Структура психической патологии в пенитенциарных учреждениях Красноярского края (2012-2014 гг.)
В мае-июне 2015 года в учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю проведено исследование социально-психологической обстановки в коллективах осужденных. Анкетировано 12 864 осужденных (76,8 % от их общей численности). Были выявлены существенные проблемы наличия негативных эмоциональных состояний:
- одиночество - 13,8 % (в некоторых учреждениях до 38 % лиц);
- раздраженность - 10,6 % (до 29 % в исправительных учреждениях);
- усталость - 18,5 % (в СИЗО до 37 %).
До 15 % осужденных на момент исследования испытывали растерянность, страх, подавленность, безысходность, что повышает риск суицидального поведения.
Хотелось бы отметить также возможности скрининга выраженности суицидальных намерений экспериментально-психологическим методом с использованием опросника суицидального риска (в адаптации Шмелева А.Г.). При выявлении уровня сформированности суицидальных намерений отмечается изменение показателей по шкалам: несостоятельность, социальный пессимизм и временная перспектива. Выявляется отрицательная концепция собственной личности и окружающего мира с представлениями о ненужности, некомпетентности, "выпадении" из среды.
Интерес представляет выявленный в обсуждаемом исследовании показатель конфликтности. Конфликты в среде осужденных криминально опасны, так как дестабилизируют обстановку. Однако при детальном анализе оказалось, что в учреждениях, где часто возникают конфликтные ситуации между осужденными, наблюдается существенное снижение количества аутоагрессивных актов. Это можно рассматривать как математическим артефактом, так и отражением соотношения гетеро- и аутоагрессии.
Изучение особенностей аутоагрессивного поведения больных с зависимостью от опиатов, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, было проведено нами ранее (Korobitsina T.V., Nakhodkin E.G., 2014). Исследование суицидальных (попытки самоубийства) и несуицидальных (самоповреждения) проявлений аутоагрессивного поведения у отбывающих наказание в мужской исправительной колонии № 16 (пос. Громадск, Красноярский край) больных опийной наркоманией показало преобладание у них несуицидальных проявлений аутоагрессии.
Нами дополнительно выполнено исследование социально-психологических факторов риска аутоагрессивного поведения у осуждённых, страдающих зависимостью от опиоидов (21 человек - группа А) и осуждённых без зависимости от психоактивного вещества (19 человек - группа B). Группы сопоставимы по возрасту (средний возраст - 24,41±1,43 года). Проанализированы условия жизни и деятельностей всех осуждённых, включенных в исследование, по косвенным, доступным однозначной оценке признакам, отражающим социологические параметры семьи, социально-психологические характеристики условий воспитания в детстве и ситуацию после достижения совершеннолетия. Использована методика стандартизированного интервью - модифицированный опросник (Бохан Н.А., Коробицина Т.В., 2000), включающий 50 параметров.
Для лиц группы А характерно большое количество ранних браков в родительской семье (возраст до 20 лет отмечен у отца в 45,5 % случаев, у матери - в 72,7 %) в отличие от собственной (18,2 % респондентов и 35,7 % их жен), соотношение аналогичных показателей у осуждённых из группы B достоверно ниже: в родительской (10 % и 25 % соответственно) и собственной (15 % и 22,2 % соответственно) семье. Потеря одного из родителей в возрасте до 5 лет, как неблагоприятный фактор воспитания отмечен у 54,5 % обследованных группы А, в отличие от 15 % в группе B. Респонденты группы А достоверно чаще 63,6 % не посещали детские дошкольные учреждения (в группе сравнения B - 20 %), воспитывались в условиях многодетных семей. Однако после достижения респондентами совершеннолетия они достоверно чаще имели одного или вообще не имели детей. Уровень образования обследованной группы А был достоверно ниже, чем у их родителей. Среди родителей испытуемых группы исследования А значительно количество лиц с высшим - 22,7 % и средним специальным образованием - 45,5 %, однако сами респонденты достоверно чаще имели неполное среднее образование, закончили только общеобразовательную школу, или получили образование уровня профессионально-технического училища - суммарный показатель 81,8 %. Такие отличия у испытуемых группы B не достигали статистической достоверности.
Корреляционный анализ параметров показал, что испытуемые группы А после достижения совершеннолетия постоянно находились вне социальной и социально-психологической ниши, заложенной им условиями воспитания в детстве (наличие достоверной положительной связи от r=+0,597 до r=+0,879 между соответствующими параметрами). Такое несовпадение ниш можно считать фактором, обусловливающим постоянное пребывание личности в состоянии хронической фрустрации, провоцирующей запуск механизма косвенной аутоагрессии у осуждённых с зависимостью от опиоидов.
Если выход из фрустрации через механизм косвенной аутоагрессии запущен, то вероятность его самопроизвольного истощения практически отсутствует. Однако в условиях пенитенциарной изоляции возможность выхода через аутодеструкцию (прогрессирование наркологического заболевания) ограничена, что может приводить к переходу на внешние проявления агрессивного поведения, в том числе гетероагрессию.
Выводы
|
 |
 |
1. Характер совершаемых преступлений, сопряженных с лишением свободы на протяжении ряда лет, не претерпевает значительных изменений: большая часть пенитенциарной популяции отбывает наказание за преступления против жизни и здоровья (убийства - 30-32 %, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 6-7 %) и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (25-27 %). Более половины осужденных содержатся в условиях исправительных колоний - 55-56 %.
2. Система профилактики аутоагрессивного поведения среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных и применение современных средств видеонаблюдения за спецконтингентом способствуют снижению риска суицидального поведения. Показатели числа актов завершенного суицида в пенитенциарных учреждениях Красноярского края (от 0,21 до 0,45 на 1 000) ниже общероссийских.
3. Большинство случаев аутоагрессивного поведения носит демонстративно-шантажный характер и совершается путём нанесения порезов кожных покровов. Большее число аутоагрессивных актов происходит во временном промежутке от 18:00 до 24:00.
4. Процент аутоагрессантов, находящихся на динамическом наблюдении у врача психиатра с различной патологией (преобладают расстройства личности и органическое поражение головного мозга), на протяжении ряда лет составляет от 39 до 54.
5. Различия социально-психологических ниш периода совершеннолетия и заложенной условиями воспитания в детстве могут рассматриваться фрустрирующими факторами у больных опийной наркоманией. Учет их у лиц в условиях социальной изоляции в перспективе позволит не только снизить уровень завершенных суицидов, уменьшить количество фактов несуицидальных проявлений аутоагрессии, но и оптимизировать помощь больным с наркологической патологией, являющейся проявлением косвенной аутоагрессии.
Литература |
 |
 1. Бакин А.А. Насилие и наркотики: социально-психологические и криминологические аспекты анализа поведенческой активности лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2012. - № 3. - С. 72-75.
1. Бакин А.А. Насилие и наркотики: социально-психологические и криминологические аспекты анализа поведенческой активности лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2012. - № 3. - С. 72-75. 2. Бохан Н.А., Буторина Н.Е., Кривулин Е.Н. Депрессивные реакции при пенитенциарной дезадаптации у подростков. - Челябинск: Изд-во "ПИРС", 2006. - 264 с.
2. Бохан Н.А., Буторина Н.Е., Кривулин Е.Н. Депрессивные реакции при пенитенциарной дезадаптации у подростков. - Челябинск: Изд-во "ПИРС", 2006. - 264 с.  3. Ганишина И.С. Некоторые психологические особенности отдельных групп наркозависимых осужденных // Перспективы науки. - 2015. - № 5. - С. 13-15.
3. Ганишина И.С. Некоторые психологические особенности отдельных групп наркозависимых осужденных // Перспективы науки. - 2015. - № 5. - С. 13-15. 4. Дебольский М.Г., Матвеева И.А. Суицидальное поведение осужденных, подозреваемых и обвиняемых в местах лишения свободы // Психология и право. - 2013. - № 3. - С. 22-32.
4. Дебольский М.Г., Матвеева И.А. Суицидальное поведение осужденных, подозреваемых и обвиняемых в местах лишения свободы // Психология и право. - 2013. - № 3. - С. 22-32. 5. Кузнецов П.В. Факторы риска суицидального (аутоагрессивного) поведения у лиц, содержащихся под стражей // Тюменский медицинский журнал. - 2012. - № 3. - С. 33-35.
5. Кузнецов П.В. Факторы риска суицидального (аутоагрессивного) поведения у лиц, содержащихся под стражей // Тюменский медицинский журнал. - 2012. - № 3. - С. 33-35. 6. Кузнецов П.В. Мотивы суицидального поведения и способы реализации суицидальных действий у лиц, содержащихся под стражей // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. - 2013. - № 2. - С. 44-48.
6. Кузнецов П.В. Мотивы суицидального поведения и способы реализации суицидальных действий у лиц, содержащихся под стражей // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. - 2013. - № 2. - С. 44-48. 7. Масагутов Р.М., Пронина М.Ю., Николаев Ю.М. Распространенность и факторы риска суицидального поведения осужденных мужчин // Суицидология. - 2012. - Т. 3, № 2. - С. 43-49.
7. Масагутов Р.М., Пронина М.Ю., Николаев Ю.М. Распространенность и факторы риска суицидального поведения осужденных мужчин // Суицидология. - 2012. - Т. 3, № 2. - С. 43-49. 8. Скрипка Л.В. Эмоциональные состояния впервые осужденных в процессе отбывания наказания // Прикладная юридическая психология. - 2014. - № 3. - С. 98-102.
8. Скрипка Л.В. Эмоциональные состояния впервые осужденных в процессе отбывания наказания // Прикладная юридическая психология. - 2014. - № 3. - С. 98-102. 9. Соломенцев В.В. Коллективное причинение умышленного вреда своему здоровью осужденными как социальный фактор в эскалации противоречий с органами исполнения наказаний // Уральский медицинский журнал. - 2014. - № 1. - С. 108-112.
9. Соломенцев В.В. Коллективное причинение умышленного вреда своему здоровью осужденными как социальный фактор в эскалации противоречий с органами исполнения наказаний // Уральский медицинский журнал. - 2014. - № 1. - С. 108-112. 10. Концепция развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы до 2020 года: утв. приказом ФСИН России от 15.12.2010 г. № 525.
10. Концепция развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы до 2020 года: утв. приказом ФСИН России от 15.12.2010 г. № 525.
 |
Главное меню |
 |
Заглавие |
 |
Введение |
 |
Материалы и методы |
 |
Результаты и обсуждение |
 |
Выводы |
 |
Литература |
Оригинальная верстка  |
|
Телефон: (4212) 76-13-96
«Дальневосточный медицинский журнал»