2015 год № 1
Управление качеством медицинской помощи
Резюме:
Ключевые слова:
Summary:
Key words:
Введение
|
 |
 |
Медицинская, социальная и экономическая важность проблемы воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) требует очень внимательного отношения к диагностике и лечению этой патологии. В структуре гинекологической заболеваемости число пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями гениталий занимает первое место, составляя 60,4-65,0%, причем не только в России, но и во всем мире. Показатель заболеваемости ВЗОМТ за первое десятилетие ХХI века возрос у пациенток 18-24 лет в 1,4 раза, а у 25-29-летних - в 1,8. Одновременно возросли затраты на диагностику и лечение, которые достигают 50-60% всех расходов на оказание гинекологической помощи населению [1, 2, 4].
ВЗОМТ являются полимикробными инфекциями, так как вызываются различными инфекционными агентами, степень вирулентности которых служит одним из решающих факторов, оказывающих влияние на распространенность патологического процесса [2, 4, 6].
По данным ряда исследователей, частота ВЗОМТ, в настоящее время не имеет тенденции к снижению, что, в свою очередь, является неблагоприятным фоном для реализации репродуктивного потенциала и развития ряда осложнений гестационного периода, таких как внематочная беременность, самопроизвольные выкидыши, преждевременные роды и т.д.
У женщин с ВЗОМТ беременность и роды гораздо чаще протекают на фоне различных осложнений. Высокий риск материнской летальности, перинатальной заболеваемости и смертности при ВЗОМТ ассоциированы с акушерскими кровотечениями, внутриутробным инфицированием, перинатальной заболеваемостью и смертностью [9, 10].
В литературных источниках имеются данные, свидетельствующие о возрастании частоты атеросклероза, диабета, коронарных заболеваний, гипертензии, эндометриоза, колоректальных раков у женщин, ранее перенесших ВЗОМТ [11, 14, 15, 16].
По данным ряда исследователей, у женщин, перенесших ранее ВЗОМТ, частота рака яичников увеличивается в 2,78 раза [17, 18].
По данным статистики МЗ РФ, частота сальпингитов и оофоритов составляет 1107,6 на 100000 женского населения соответствующего возраста (2013 г.). Аналогичный показатель в Дальневосточном Федеральном округе (ДФО) - 1364,7 [8].
Понятие ВЗОМТ является собирательным. В него входят различные нозологические формы. Существуют многочисленные противоречия во взглядах на диагностические подходы и лечебную тактику, характер скрининга и контроль за отдаленными результатами лечения, этиологического и патогенетического значения различных микроорганизмов, обнаруживаемых в половых путях с ВЗОМТ и т.д.
В этой связи дальнейший анализ рациональных методов терапии пациенток с ВЗОМТ, а также оценки их эффективности является актуальной задачей.
Такие работы имеют определенные перспективы, поскольку позволяют расширить современные представления о возможностях современных методов лечения пациенток с различными формами ВЗОМТ.
Цель: провести анализ адекватности терапии антибиотиками у пациенток с ВЗОМТ в стационарах.
Методы и материалы
|
 |
 |
В условиях стационара, методом сплошной выборки, были проанализированы 884 истории болезни (медицинские карты стационарного больного - форма - 003/у) женщин, с различными нозологическими формами ВЗОМТ.
В процессе работы мы пользовались следующими критериями включения:
- возраст пациенток в обеих группах соответствовал 18 - 45 годам (репродуктивный период);
- наличие ВЗОМТ у пациенток было подтверждено клиническими данными; лабораторными методами исследования; результатами УЗИ; данными гистеороскопии, лапароскопии; гистологического исследования биоптатов эндометрия, маточных труб, яичников.
К критериям исключения были отнесены сифилис, туберкулез половых органов, ВИЧ, злокачественные новообразования органов репродуктивной системы.
Профессиональный состав пациенток с ВЗОМТ был следующим: женщин, имевших как высшее, так и среднее образование, было 504 (57,01±1,67%) чел., их работа была связана с наличием эмоциональных нагрузок; занимающихся физическим трудом - 290 (32,81±1,59%) чел.; неработающих женщин - 90 (10,18±1,02%) чел. Таким образом, неработающих женщин было достоверно меньше (р<0,001), чем занятых в процессе производства.
Изучение гинекологического анамнеза показало, что средний возраст наступления менархе составил 13,25±2,17 лет. Начало полового дебюта до 17 лет отмечали 492 (55,66±1,67%) женщины. Наличие патологии шейки матки и миомы матки в анамнезе отмечали 362 (36,88±1,62%) и 133 (15,05±1,20%) пациентки, соответственно. Ранее перенесли сальпингоофорит 354 (40,05±1,65%) женщины. На наличие ИППП указывали 152 (17,19±1,27%) пациентки. Гиперпластические процессы эндометрия были у 83 (9,39±0,98%) женщин. По поводу апоплексии яичников были прооперированы 121 (13,69±1,56%) пациентки. Проведение ретроспективного анализа показало, что всего у женщин группы обследования, поступивших в гинекологические стационары с ВЗОМТ, было 1585 беременностей: родов - 351 (39,71±1,61%); артифициальных абортов - 379 (42,87±1,66%); абортов (самопроизвольных, внебольничных) - 85 (9,15±0,97%); внематочных беременностей - 12 (1,36±0,39%). Не было беременности у 57 (6,45±0,83%) женщин.
На основании выполненной верификации диагноза нозологическая структура ВЗОМТ у 884 пациенток выглядела следующим образом: сальпингит и оофорит - 487 (55,09±1,67%); эндометрит - 101 (11,43±1,07%); сальпингит и оофорит, осложненный пельвиоперитонитом - 296 (33,48±1,59%) случаев (Табл.1).
| Характер жалоб и данные анамнеза | Общий осмотр | Гинекологический осмотр | Лабораторные и морфологические методы | Диагностические методы |
|---|---|---|---|---|
| Боли: внизу живота; в поясничной области; с иррадиацией во влагалище, задний проход, нижние конечности | Состояние кожных покровов и видимых слизистых | Осмотр наружных половых органов | Клинические анализы: - общий анализ крови - общий анализ мочи | УЗИ органов малого таза |
| Выделения из влагалища: обильные; гнойные; водянистые; кровянистые; сукровичные | Пульс, АД, температура | Осмотр шейки матки в зеркалах | Биохимические анализы: общий белок крови; СРБ; билирубин; мочевина; сахар крови | Диагностическая лапароскопия |
| Нарушение менструального цикла | Пальпация живота | Тракции шейки матки | Диагностика инфекционных заболеваний и верификация возбудителя: антитела к ВИЧ; антитела к гепатиту В и С; антитела суммарных классов к бледной трепонеме; микроскопия влагалищного мазка; посев различных видов биоматериала на гонококк; культуральные исследования для определения микрофлоры и чувствительности к антибиотикам; ПЦР для определения возбудителей ИППП; ИФА для определения антител к возбудителям ИППП | Пункция заднего свода |
| Озноб | Наличие симптомов раздражения брюшины | Бимануальное исследование | Определение отдельных параметров гемостаза: тромбоциты; фибриноген; РМФК; ВСК, ДК. | |
| Длительность заболевания | Пальпация регионарных лимфоузлов | Ректальное исследование | Результаты морфологического исследования |
Обсуждение результатов
|
 |
 |
Всем 884 пациенткам была назначена консервативная терапия, включающая использование инфузионных, антимикробных и противовоспалительных препаратов. Системная антимикробная терапия первоначально назначалась эмпирически, а затем корригировалась в зависимости от клинического состояния пациентки и вида определяемого микробного агента (Табл. 2).
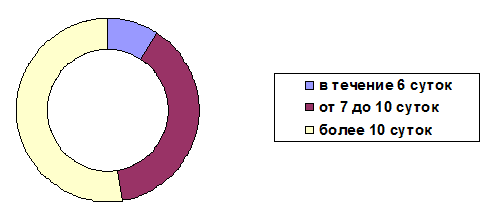
Рис. 1. Продолжительность антимикробной терапии, проводимой пациенткам с ВЗОМТ
Анализ продолжительности использования антимикробной терапии показал, что 80 (9,05±0,96%) пациенток принимали антимикробную терапию в течение 6 суток; 339 (38,35±1,69%) - от 7 до 10 суток; 465 (52,60±1,68%) - более 10 суток, т.е. достоверно чаще антимикробная терапия назначалась на протяжении 7-10 суток и более 10 суток (р<0,001) (Рис. 1; Табл.2).
| Схемы назначения антимикробной терапии | Кол-во пациенток (n=884) | Длительность приема - до 6 суток (n=80) | Длительность приема - 7-10 суток (n=339) | Длительность приема - более 10 суток (n=465) |
|---|---|---|---|---|
| Цефалоспорины + производные нитроимидазола | 190 чел. 20,36±1,35% | 41 чел. 4,64±0,71% | 46 чел. 5,20±0,75% | 103 чел. 11,65±1,08% |
| Цефалоспорины + фторхинолоны | 72чел 8,14±0,92% | - | 72 чел. 8,14±0,92% | - |
| Производные нитроимидазола+фторхинолоны | 101 чел 11,43±1,07% | 6 чел. 0,68±0,28% | - | 95 чел. 10,75±1,04% |
| Производные нитроимидазола+тетрациклины | 77 чел. 8,71±0,95% | - | 77 чел 8,71±0,95% | - |
| Цефалоспорины+ производные нитроимидазола+фторхинолоны | 64 чел. 7,24±0,94% | - | 13 чел 1,47±04,0% | 51 чел 3,51±0,62% |
| Цефалоспорины+ производные нитроимидазола+тетрациклины | 138 чел. 15,61±1,22% | - | 8 чел. 0,90±0,32% | 130 чел 14,71±1,19% |
| Полусинтетические пенициллины+ производные нитроимидазола | 56 чел. 6,33±0,82% | - | 2 чел. 0,23% | 54 чел 6,11±0,81% |
| Ингибиторозащищенные пенициллины | 50 чел. 5,66±0,78% | 33 чел. 3,73±0,64% | 17 чел. 1,92±0,46% | - |
| Аминогликозиды+производные нитроимидазола | 64 чел. 7,24±0,94% | - | 32 чел. 3,62±0,63% | 32 чел. 3,62±0,63% |
| Макролиды + производные нитроимидазола | 72 чел. 8,14±0,92% | - |
Результаты ретроспективного анализа используемой антимикробной терапии у пациенток с ВЗОМТ свидетельствуют о том, что в лечебных мероприятиях использовались различные группы антибиотиков. Как следует из данных, представленных в табл.2, достоверно чаще (р<0,001) других антимикробных препаратов использовались производные нитроимидазола, которые применялись у 762 (86,20±1,16%) пациенток, всегда в комбинации с другими антимикробными препаратами. На втором месте по частоте использования были цефалоспорины, которые назначались 464 (52,49±1,68%) пациенткам, в комбинации с другими антимикробными препаратами. У 215 (24,32±1,44%) пациенток в комплекс антимикробных препаратов были включены тетрациклины, которые назначались в сочетании с цефалоспоринами + производными нитроимидазола (15,61±1,22%), а также - с производными нитроимидазола (8,71±0,95%). По частоте использования тетрациклины занимали третье место (рис. 2; табл.2). 173 (19,57±1,33%) пациенткам были назначены фторхинолоны. Фторхинолоны в сочетании с цефалоспоринами - (8,14±0,92%) и в сочетании с производными нитроимидазола - (11,43±1,07%). По частоте применения фторхинолоны занимали четвертое место. На пятом месте по частоте назначения были макролиды (8,14±0,92%). Далее, по частоте убывания, применялись аминогликозиды (7,24±0,94%); полусинтетические пенициллины (6,33±0,82%) и ингибиторозащищенные пенициллины (5,66±0,78%).
Макролиды, аминогликозиды и полусинтетические пенициллины применялись в сочетании с производными нитроимидазола.
Таким образом, в общей сложности, антимикробные препараты пенициллинового ряда (цефалоспорины, полусинтетические пенициллины), которые были использованы у 570 (64,48±1,61%) пациенток, и препараты группы нитроимидазолов (77,83±1,40%) применялись достоверно чаще (р<0,001; р<0,001) других антимикробных средств у пациенток с ВЗОМТ.
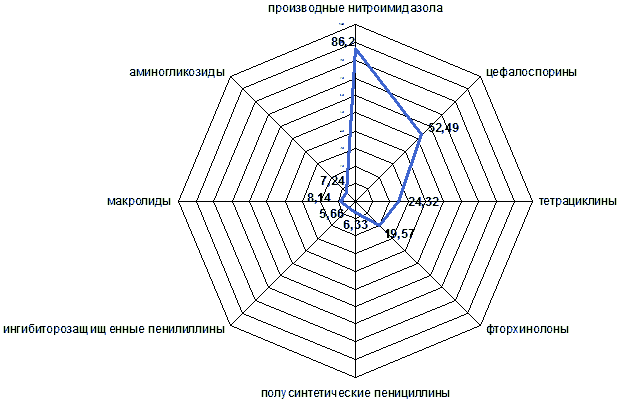
Рис. 2. Структура антимикробной терапии, назначаемой пациенткам с ВЗОМТ.
В соответствии с результатами исследования, представленными в табл. 2, достоверно чаще (р<0,05) использовалась комбинация, сочетающая применение цефалоспоринов+производных нитроимидазола (20,36±1,35%). Далее, по частоте использования, следовали комбинации антимикробных препаратов, включающих применение цефалоспоринов+производных нитроимидазола+тетрациклинов (15,61±1,22%), а также производных нитроимидазола+фторхинолоны (11,43±1,07%).
Проведение различных комбинаций антимикробных препаратов привело (первоначально - внутривенное назначение, затем - переход на внутримышечное использование или прием per os) к клинически положительной динамике в лечении пациенток с ВЗОМТ в стационаре. Сравнительный анализ возможностей различных комбинаций антимикробных препаратов (табл. 2) на микробный спектр показал, что наиболее распространенным было сочетание антибиотиков пенициллинового ряда (цефалоспорины, полусинтетические пенициллины, ингибиторозащищенные антибиотики), аминогликозидов с производными нитроимидазола, которые были назначены, в общей сложности, 360 (40,72±1,65%) пациенткам с ВЗОМТ.
Назначение антимикробной терапии, сочетающей антибиотики пенициллинового ряда с производными нитроимидазола и аминогликозидов с производными нитроимидазола, оказало непосредственное влияние на внеклеточных микробных агентов (аэробы, анаэробы), но, при этом, не был затронут спектр внутриклеточных возбудителей (Ch. trachomatis; M. genitalium; M. hominis; U. urealуticum и т.д.).
Использование только одних ингибиторозащищенных пенициллинов влияет на широкий спектр аэробных Грам (+) кокков и Грам (-) палочек, а также на анаэробы (спорообразующие и неспорообразующие, включая B.fragilis), но не оказывает воздействия на атипичных возбудителей.
Сочетание цефалоспоринов III поколения и фторхинолонов (8,14±0,92%) воздействовало на аэробный и анаэробный (преимущественно на анаэробные кокки, но не влияло на B. fragilis). При применении цефалоспоринов II поколения влияние на анаэробный спектр отсутствовало вообще.
Назначение в комплексе антимикробной терапии фторхинолонов III поколения оказывало влияние на атипичных возбудителей (хламидии, микоплазмы), а при сочетании с фторхинолонами IV поколения - воздействовало на неспорообразующие анаэробы (B. fragilis и др.), но во всех схемах, сочетающих цефалоспорины и фторхинолоны, отсутствовало их влияние на трихомонады.
Следовательно, наиболее эффективной схемой назначения было использование цефалоспоринов III поколения в сочетании с фторхинолонами IV поколения (2,49±0,52%), но даже при таком сочетании отсутствовало их влияние на трихомонады. При назначении цефалоспоринов II- III поколения в сочетании с фторхинолонами III поколения отсутствовало их влияние не только на трихомонады, но и на неспорообразующие анаэробы.
Поэтому применение схемы цефалоспорины+производные нитроимидазола+фторхинолоны (7,24±0,94%) позволило охватить более широкий спектр аэробных, анаэробных, атипичных и простейших возбудителей.
Схема, включающая назначение производных нитроимидазола+тетрациклинов (8,71±0,95%), оказывала положительное влияние на аэробы, анаэробы, атипичных возбудителей. При этом следует отметить, что уязвимым местом данной схемы являлось наличие устойчивости к препаратам тетрациклинового ряда многих штаммам E.coli.
Поэтому сочетание цефалоспоринов + производных нитроимидазола + тетрациклинов (15,61±1,22%) позволило более полно охватить воздействием аэробных, анаэробных, атипичных и простейших возбудителей.
Схема с применением макролидов и производных нитроимидазола была использована у 8,14±0,92% пациенток. Данная схема оказывала положительное влияние на основной спектр аэробов, анаэробов, атипичных и простейших возбудителей.
Длительность приема антимикробных препаратов более 10 суток была зарегистрирована у 465 (52,60±1,68%)пациенток и по частоте назначения являлась самой распространенной (р<0,001). Следовательно, схемами, воздействующими на основной спектр микробных возбудителей, были схемы: цефалоспорины+производные нитроимидазола+тетрациклины (15,61±1,22%) и цефалоспорины + производные нитроимидазола + фторхинолоны (7,24±0,94%). В общей сложности данные схемы были использованы у 202 (22,85±1,41%).
Таким образом, назначение антимикробных препаратов в гинекологических стационарах зачастую проводится эмпирически, т.к. определение микробных возбудителей, вызвавших воспалительный процесс, является длительной и многозатратной процедурой. Только в 22,85±1,41% случаев (р<0,001), по данным собственного исследования, такое применение было рациональным. В остальных случаях (77,15±1,41%), несмотря на клиническое улучшение (выздоровление), антимикробная терапия не была активна против основных возбудителей ВЗОМТ.
При неадекватном лечении пациенток с ВЗОМТ в последующем у них нельзя будет исключить хронизацию воспалительного процесса и возникновение осложнений, поскольку используемые схемы антимикробных препаратов не полностью воздействуют на возможный спектр микробных агентов (аэробных, анаэробных, атипичных и простейших возбудителей). Длительность использования антимикробных препаратов более 10 суток (р<0,001), при отсутствии положительной динамики, в определенной степени также связана с тем что подобранная лекарственная схема антимикробных препаратов не была активна против возбудителей ВЗОМТ.
Сопоставление длительности пребывания больных в стационаре и продолжительности приема антибиотиков показало, что у 246 (27,83±1,51%) пациенток с легкой степенью заболевания прием антибиотиков был в 2,12 раза; а у 211 (23,87±1,43%) пациенток со средней степенью тяжести заболевания - в 1,4 раза меньше, чем этого требуют современные рекомендации (14 дней). Таким образом, полученные результаты следует учитывать при эмпирическом назначении антибактериальных препаратов, особенно в гинекологических стационарах, у пациенток с острым течением или обострениями ВЗОМТ.
Антимикробная терапия ВЗОМТ основывается на понимании их полимикробной этиологии и тесной связи с ИППП. Для оптимального режима лечения необходимо использовать существующие национальные и международные рекомендации, а также вновь появляющиеся данные по резистентности возбудителей и результаты контролируемых клинических исследований [3, 5, 7].
При невозможности использовать стандартные комбинации (недоступность, непереносимость, неэффективность) индивидуальный подбор препаратов целесообразно проводить совместно с клиническим фармакологом и клиническим микробиологом. Следует помнить, что большинство пациентов могут лечиться амбулаторно пероральными режимами, и только при тяжелом течении требуется госпитализация и парентеральное введение препаратов [3,10].
Терапия ВЗОМТ должна быть начата как можно раньше после появления первых симптомов. Конечными целями лечения ВЗОМТ является купирование не только текущего эпизода, но и предотвращение или снижение количества и выраженности негативных последствий для репродуктивного здоровья женщины [3,6,7].
Антимикробная терапия при ВЗОМТ, назначаемая эмпирически, должна быть применена не менее 14 дней. Спектр воздействия должен охватывать влияние на аэробную, анаэробную флору; внеклеточные и внутриклеточные микроорганизмы; простейшие [3,9].
Необходимо оценивать первые результаты лечебных мероприятий в стационаре через 72 часа от начала назначения эмпирической антимикробной терапии. Если лечебная тактика была верной, то будет иметь место положительная клиническая динамика. Если нет, тогда необходимо решать вопрос о смене антимикробной терапии (совместное решение с клиническим фармакологом) или проведении хирургического лечения [3,12,13].
Заключение
|
 |
 |
При ретроспективном анализе лечения пациенток с ВЗОМТ выявлено, что эмпирически назначенные схемы лечения не соответствовали требованием, предлагаемым специалистами ВОЗ, в связи с чем, имели низкую эффективность в 77,15%.
Сопоставление длительности пребывания больных в стационаре и продолжительности приема антибиотиков показало, что у 27,83% пациенток с легкой степенью заболевания продолжительность приема антибиотиков была в 2,12 раза меньше; а у 23,87% пациенток со средней степенью тяжести заболевания - в 1,4 раза меньше, чем это требуют современные рекомендации (14 дней). Полученные результаты можно рассматривать, как нерационально проведенное лечение, следствием которого может быть рецидивирование заболевания и развитие устойчивости микробной флоры к антибиотикам.
Список литературы |
 |
 1. Акушерство и гинекология. Клинические рекомендации, 3-е издание / под ред. Г. М. Савельевой, В. Н. Серова, Г. Т. Сухих. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1200 с.
1. Акушерство и гинекология. Клинические рекомендации, 3-е издание / под ред. Г. М. Савельевой, В. Н. Серова, Г. Т. Сухих. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1200 с. 2. Гинекология: Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина. М.: ГЭОТАР-Медиа 2013; 704.
2. Гинекология: Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина. М.: ГЭОТАР-Медиа 2013; 704.  3. Гомберг, М. А. Ведение пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза / М. А. Гомберг // Гинекология. 2013. Т. 15, № 6. С. 46-49.
3. Гомберг, М. А. Ведение пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза / М. А. Гомберг // Гинекология. 2013. Т. 15, № 6. С. 46-49. 4. Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции. Под ред. В. Н. Прилепской. М.: ГЭОТАР-Медиа 2014; 160.
4. Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции. Под ред. В. Н. Прилепской. М.: ГЭОТАР-Медиа 2014; 160.  5. Козлов, Р. С. Проблема антибиотикорезистентности в акушерстве и гинекологии / Р. С. Козлов // РМЖ. 2014. № 1. С. 79-82.
5. Козлов, Р. С. Проблема антибиотикорезистентности в акушерстве и гинекологии / Р. С. Козлов // РМЖ. 2014. № 1. С. 79-82. 6. Кузьмин, В. Н. Новые подходы к лечению воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин / В. Н. Кузьмин // Фарматека. 2008. № 14. С. 45-48.
6. Кузьмин, В. Н. Новые подходы к лечению воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин / В. Н. Кузьмин // Фарматека. 2008. № 14. С. 45-48. 7. Пестрикова, Т. Ю. Медикаментозная терапия в практике врача акушера-гинеколога / Т. Ю. Пестрикова, Е. А. Юрасова, И. В. Юрасов. М.: Литтерра, 2011. 512 с.
7. Пестрикова, Т. Ю. Медикаментозная терапия в практике врача акушера-гинеколога / Т. Ю. Пестрикова, Е. А. Юрасова, И. В. Юрасов. М.: Литтерра, 2011. 512 с. 8. Пестрикова Т.Ю. Мониторирование основных показателей работы акушерско-гинекологической службы Дальневосточного Федерального округа в 2013 г. Новые технологии в акушерстве и гинекологии: сб. науч. труд. Дальневосточ. регион. науч.-практ. конференции. Хабаровск 2014; 8-34.
8. Пестрикова Т.Ю. Мониторирование основных показателей работы акушерско-гинекологической службы Дальневосточного Федерального округа в 2013 г. Новые технологии в акушерстве и гинекологии: сб. науч. труд. Дальневосточ. регион. науч.-практ. конференции. Хабаровск 2014; 8-34.  9. Петерсен, Э. Э. Инфекции в акушерстве и гинекологии [Текст] / Э. Э. Петерсен; пер. с англ.; под общей ред. В. Н. Прилепской. М.: МЕДпресс-информ, 2007. 352 с.
9. Петерсен, Э. Э. Инфекции в акушерстве и гинекологии [Текст] / Э. Э. Петерсен; пер. с англ.; под общей ред. В. Н. Прилепской. М.: МЕДпресс-информ, 2007. 352 с. 10. Серов В.Н., Дубницкая Л.В., Тютюник В.Л. Воспалительные заболевания органов малого таза: диагностические критерии и принципы лечения. Русский медицинский журнал 2011; 19 (395); 1; 46-50.
10. Серов В.Н., Дубницкая Л.В., Тютюник В.Л. Воспалительные заболевания органов малого таза: диагностические критерии и принципы лечения. Русский медицинский журнал 2011; 19 (395); 1; 46-50.  11. Baker A.M., Cox T.R., Bird D. The role of tysyl oxidase in SRC-dependent proliferation and metastasis of colorectal cancer. J Natl Cancer Inst 2011; 103 (5); 407-424.
11. Baker A.M., Cox T.R., Bird D. The role of tysyl oxidase in SRC-dependent proliferation and metastasis of colorectal cancer. J Natl Cancer Inst 2011; 103 (5); 407-424. 12. Boeke, A. J. The risk of pelvic inflammatory disease with urogenital infection with Chlamidia trachomatis / A. J Boeke // Ned. Tijdschr. Geneeskd. -2005. Vol. 16 (149). Р. 878-884.
12. Boeke, A. J. The risk of pelvic inflammatory disease with urogenital infection with Chlamidia trachomatis / A. J Boeke // Ned. Tijdschr. Geneeskd. -2005. Vol. 16 (149). Р. 878-884. 13. Bradsbaw, C. S. Persistence of Mycoplasma genitalium following azithromycin therapy / C. S. Bradsbaw, M. Y. Cben, С. К. Fairley // PLoS One. - 2008. - Vol. 3. - Р.3618.
13. Bradsbaw, C. S. Persistence of Mycoplasma genitalium following azithromycin therapy / C. S. Bradsbaw, M. Y. Cben, С. К. Fairley // PLoS One. - 2008. - Vol. 3. - Р.3618. 14. Chen Р. Ch., Tseng T. Сh.., Hsieh J. Y., Lin H. W. Association between stroke and patients with pelvic inflammatory disease. Stroke 2011; 42; 2074-2076.
14. Chen Р. Ch., Tseng T. Сh.., Hsieh J. Y., Lin H. W. Association between stroke and patients with pelvic inflammatory disease. Stroke 2011; 42; 2074-2076. 15. Hsu M.I., Lin H.W. Risk of colorectal cancer in women with pelvic inflammatory disease: a matched cohort study. Int J Obstet Gynaecol 2014; 121 (3); 337-342.
15. Hsu M.I., Lin H.W. Risk of colorectal cancer in women with pelvic inflammatory disease: a matched cohort study. Int J Obstet Gynaecol 2014; 121 (3); 337-342. 16. Lin H.W., Tu Y.Y., Lin S.Y. Risk of ovarian cancer in women with pelvic inflammatory disease: a population-based study. Lancet Oncology 2011; 12(9); 900-904.
16. Lin H.W., Tu Y.Y., Lin S.Y. Risk of ovarian cancer in women with pelvic inflammatory disease: a population-based study. Lancet Oncology 2011; 12(9); 900-904. 17. Payne S.L., Hendrix M.J., Kircshmann D.A. Paradoxial roles for lysyl oxidases in cancer - a prospect. J Cell Biochem 2007; 101 (6); 1338-1354.
17. Payne S.L., Hendrix M.J., Kircshmann D.A. Paradoxial roles for lysyl oxidases in cancer - a prospect. J Cell Biochem 2007; 101 (6); 1338-1354. 18. Rasmussen С.В., Faber М.Т., Jensen Т.А. Pelvic inflammatory disease and risk of invasive ovarian cancer and ovarian borderline tumors. Cancer Causes Control 2013; 24 (7); 1459-1464.
18. Rasmussen С.В., Faber М.Т., Jensen Т.А. Pelvic inflammatory disease and risk of invasive ovarian cancer and ovarian borderline tumors. Cancer Causes Control 2013; 24 (7); 1459-1464.
Телефон: (4212) 30-53-11
«Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России»

