2016 год № 4
Управление качеством медицинской помощи
Резюме:
Ключевые слова:
Summary:
Key words:
Введение
|
 |
 |
В условиях реализации принципов рыночной экономики, во взаимоотношениях производителя медицинских услуг (врача) и потребителя (пациента) формируется тенденция преимущества экономических норм над этическими. В то же время следует уточнить, что это отнюдь не новое явление в истории их взаимоотношений. Существуют многочисленные свидетельства объяснений моделей потребительского поведения человека. В частности, натуралистическо-прагматические теории, такие как цинизм и гедонизм в античности, теория "естественности" человеческой природы, права, морали (Т. Гоббс, Дж. Локк, Д.Юм), социал-дарвинизм, эволюционизм (Ч.Дарвин, Г. Спенсер), прагматизм, утилитаризм (И.Бентам, Дж. Ст. Милль), социобиологизм (З.Фрейд, Ф.Ницше) и социоцентризм (О.Конт, К Маркс, Э.Дюркгейм), которые предшествовали современным воззрениям на стремление человека к удовлетворению максимума потребностей. Сообщество людей, стремящихся к удовлетворению своих, как правило, растущих потребностей, образует специфическую группу индивидов, которая получила в современной социологии название - "общество потребления" [46, 47]. В таком обществе взаимоотношения врача и пациента подвергаются серьёзным испытаниям.
XXI век становится временем, когда формируется "дорожная карта" будущего медицины. Современная медицина стоит перед выбором ориентации на либерально-конструктивистский путь развития или традиционную христианскую этику и мораль. От выбора направления развития зависит ответ на вопрос, претерпит ли медицина серьезные типологические изменения отражающие характер взаимоотношений между врачом и пациентом, поскольку в современной медицине без тесного сотрудничества производителя и потребителя медицинских услуг достаточно трудно добиться положительного результата [43]. Многолетняя клиническая практика убеждает нас в том, что обе стороны уже давно достигли согласия в том, что в деликатное пространство их взаимоотношений не имеют права вторгаться третьи лица, какими бы полномочиями они не обладали. Однако в течение относительно короткого временного промежутка рыночная экономика внесла поправки во взаимоотношения врача и пациента. Она сформировала устойчивую динамику модернизации моделей взаимоотношений "врач-пациент", начиная от инженерной и пастырской (патерналистской), кончая переходом к коллегиальной и контрактной [9]. Именно в контрактной современной модели всё регламентируется договорными обязательствами сторон относительно возмездного оказания медицинских услуг [14, 16].
В условиях формирования рыночных механизмов современное общество переживает период трансформации, когда манифестируется "аксиологический хаос" в виде смешивания природы ценностей. Это требует консенсуса со стороны граждан, которые могут иметь различные представления о добре и зле, о правде и лжи, о здоровье и нездоровье и т.д. [38]. В связи с этим, толерантность, подразумевающая антидогматизм, представляется ценным ресурсом на пути современного общества к принципу глобальности, предполагающему различие и сосуществование индивидуальностей с различными ценностями и идеалами [35].
Обсуждение результатов
|
 |
 |
Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных государств мира. По данным переписи населения 2010 года, сформированным на основе самоопределения граждан, на территории нашей страны проживают представители 193 этнических общностей (в 2002 году их насчитывалось 182), обладающих уникальными особенностями материальной и духовной культуры, используется 277 языков и диалектов [4, 11]. Проживание большого количества разных народов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) ставит перед властными структурами и гражданским обществом вопросы регулирования в сфере межнациональных отношений и достижения достаточного уровня толерантности [5]. Формирование толерантности имеет свои особенности в различных культурных конфигурациях. Одной из таких конфигураций является медицина, где проблема толерантности в последние годы дополняется кадровым кризисом [34]. Именно кадровый кризис в отечественной медицине усиливает значение внедрения антропологических принципов в сферу производства медицинских услуг, поскольку до сих пор существуют серьезные различия отношения к здоровью у представителей разных социальных и этнокультурных групп. Эти различия крайне значимы, их следует принимать во внимание при организации медицинской помощи пациентам - представителям различных народов и этнических групп [21].
У истоков антропологического подхода в медицине. В историческом аспекте система медицинских научных знаний предполагает в качестве своей основной цели сохранение и укрепление здоровья, продление и улучшение качества жизни, профилактику и лечение различных патологических состояний и болезней человека. В современном мире к системе сохранения и укрепления здоровья следует отнести создание общего учения о здоровье - валеологию, научные основы которой формируются путем синтеза биомедицинских и психологических знаний на антропологическом фундаменте [1, 25].
С одной стороны, вопрос межэтнического взаимодействия, имеет важное стратегическое значение для укрепления единства россиян, достижения гражданского и межэтнического согласия в отношениях, сохранения этнокультурного многообразия российской нации в целом, толерантности и предотвращения конфликтов на почве национальной, расовой или религиозной ненависти [5]. С другой стороны, в ДФО в течение последних десятилетий на фоне стимулирования миграционных процессов медицинские работники столкнулись с возросшим количеством пациентов представителей разнообразных этнических групп как из дальнего, так из ближнего зарубежья (китайцев, корейцев, вьетнамцев, узбеков, таджиков, казахов и др.). Ситуация дополняется этническим разнообразием дальневостоников (русских, украинцев, белоруссов, якутов, бурятов, эвенков, нанайцев, нивхов, чукчей и др.) [17, 37, 44]. При взаимодействии с пациентами, перед лечащими врачами постоянно встают проблемы, которые обусловлены особыми этнокультурными особенностями пациентов. В частности выходцы из азиатских стран имеют сходные типы реакций относительно своего здоровья и оказания медицинской помощи, в то же время представители европейских народов, реагируют на рекомендации и назначения врача по-своему, отлично от выходцев из Азии.
Анализ исторических параллелей развития современной медицины позволяет говорить о том, что стремительный рост знаний в области общей медицинской теории, клинической медицины и частной патологии происходит после того, как было осознано значение антропологического контекста этих явлений. Потребности к интеграции в биомедицинских дисциплинах, в том числе и с сопредельными науками, были явно обозначены уже в 60 -70-х годов ХХ века. Этому в немалой степени способствовали обсуждения проблем причинности в медицине, выдвинутые И.В. Давыдовским [15]; концепция В.П. Эфроимсона о генетико-эволюционной "родословной" альтруизма [54]; теория П.К. Анохина о функциональных системах [2] и др. Именно этим, наряду с реабилитацией генетики в отечественной науке, были заложены основы междисциплинарного анализа проблем биологического и социального в человеке [27]. В конечном итоге, была сформирована междисциплинарная область знания о социокультурных аспектах здоровья и болезни в виде медицинской антропологии [72].
Итак, медицинская антропология - это область знания, возникшая на границах социальной, культурной и биологической антропологии, чтобы объяснить те факторы, которые влияют на здоровье и благополучие индивидов и социальных групп. Кроме того, такой подход позволяет сделать очевидными те культурные различия, которые существуют в разных человеческих обществах по поводу представлений о болезнях и способах их распространения, практик их лечения и профилактики, а также социальных институтов, которые возникают в связи с этим [28, 36, 55, 73].
Поскольку эволюция жизни, живого организма, но, прежде всего, эволюция развития человека процесс достаточно длительный, то в ходе эволюционно-исторического процесса жизни вообще и человеческой жизни в частности происходит взаимное приспособление познающих живых организмов, человека и среды их обитания [53]. Параллельно формируется система этических норм и правовых требований, как правило, в направлении дальнейшего расширения прав человека применительно к медицине. Этническое многообразие пациентов ставит перед практикующими врачами значительное число вопросов, которые требуют разрешения не только с технологической точки зрения, но и с точки зрения этнокультурной. В частности сегодня, когда часть пациентов перестала воспринимать смерть, как неумолимый факт прекращения жизни, а врачи стали искать ответ на вопрос, вытекает ли смерть из самой этой сущности, значительно усложнилось отношение к возможности отодвинуть смерть с помощью инновационных технологий (пересадка органов и тканей, генная инженерия и др.). В то же время инновационное развитие медицины, формирование концепции здоровья и болезни, смерти и продления жизни, вызывают радикальную критику со стороны отдельных ученых, таких, как Айван Иллич.
Если в традиционной парадигме медицина служит охране здоровья, то для Айвана Иллича медицина по отношению к здоровью - главный враг. Она, как одна из институций современного общества, отчуждает человека от собственного опыта, собственного здоровья и болезни и навязывает общепринятые критерии жизни [10,61]. Он утверждал: "Для тех, кто прославляет жизнь, а не сохраняет "живое состояние", я требую некоторых свобод:
- свободу признавать себя больным;
- свободу в любое время отказаться от всякого медицинского лечения;
- свободу принимать лекарства или лечение по собственному произволению;
- свободу самостоятельно выбрать врача, т. е. выбрать из сообщества того, кто считает своим призванием практику исцеления, независимо от того, является он иглотерапевтом, гомеопатом, астрологом, знахарем, либо кем-то еще;
- свободу умереть без диагноза [66].
По мнению А. Иллича, на первый план в современной медицине выходит "ятрогенез" - заболевания, вызванные самими врачами и самой медициной. При этом он выделял три уровня ятрогений.
I. Первый уровень - это клинические ятрогении, которые появляются не только вследствие ущерба здоровью, причиняемого лечением, но и как всякое нарушение прав пациента с целью защиты от них.
II. Второй уровень - социальные ятрогении, основанные на "конфискации" здоровья и поощрении трансформации из здорового гражданина в пациента, использующего ресурсы профилактической и лечебной медицины. Социальные ятрогении связаны с социальной медикализацией жизни и поддержанием болезненного общества.
III. Третий уровень - культурные ятрогении, которые блокируют возможности человека и его автономное функционирование. Человек превращается во всего лишь клинический случай, что запускает блокировку всякой здоровой реакции на страдание, болезнь и смерть.
Критическая антропология А. Иллича указывает на ложную по форме своего возникновения социальную реальность и описывает настоящую (подлинную), от которой большинство людей отчуждено [67, 68]. Пространство здоровья, по его мнению, определяется на основании экономической системы, которая задает уровень производства медицинских услуг и необходимость их нарастающих продаж, а также формирует различные слои общества на основании уровня трудоспособности.
Юджин Буркарт (2002) обобщая экономический подход работ Иллича, приходит к двум выводам: "Во-первых, каждая система функционирует по модели бизнеса, приносящего тем, кто в ней задействован, доход и престиж. Во-вторых, как и всякий бизнес, системы производства медицинских услуг, нуждаются в формировании рыночных отношений при сбыте конечной продукции" [62]. Подтверждающей взгляды А. Иллича относительно глобальной экономической системы, которая задаёт уровень производства медицинских услуг, является относительно новая модель управления предприятиями - "бережливое производство" (Lean Production) - термин введенный Джоном Крафчиком (John Krafcik), которая направлена на повышение его конкурентоспособности [49], что стимулирует, как ни парадоксально рост ятрогений [59].
Глобализация здравоохранения в рамках реализации англо-саксонского доминирования в формировании идеологии развития мира, которую диктуют США, Великобритания и страны - лидеры ЕС, тесно связано с межкультурным взаимодействием, общественными проблемами и идеалами, а также вопросами морали и этики. Основная цель глобализации заключается в том, чтобы перейти от этноцентрических стадий "отрицания", "защиты" и "минимизации", к этнорелятивным стадиям "принятия", "адаптации" и "интеграции" [60]. Такой переход требует высокого уровня коммуникаций и взаимного уважения между врачом и пациентом, а также солидарности, равноправия и справедливости в отношении доступности, качества и безопасности медицинской помощи для максимального числа пациентов.
В путах навязанных рынком товарно-денежных отношений. В рыночных условиях, когда медицинские услуги реализуются по критериям цены и качества, взаимоотношения между потребителями и производителями далеки от консенсуса. Пациент, в рамках реализации идеологии "информированного согласия", неожиданно для себя узнает, что стопроцентных гарантий приобретения безопасных медицинских услуг не существует. В медицине, как и в других областях производственной деятельности, существует Риск формирования случайных явлений, которые могут стать причиной нанесения ущерба здоровью потребителя или потере им самой жизни, что должно предусматривать его юридическую защиту.
Проблема юридической защиты потребителя и ответственности производителя, связанной с оказанием медицинской помощи, сама по себе не нова.
На протяжении длительного периода времени проблема конфликта между пациентом и врачом, связанного с оказанием медицинской помощи, фактически не обсуждалась в отечественной правовой литературе. Справедливости ради следует отметить, что в современном мире весьма сложно найти государство, большинство граждан которого положительно бы оценивали уровень доступности, качества и безопасности медицинской помощи. Причем совершенно не важно, идет ли речь о странах "третьего мира" или экономически развитых стран, таких как США и Канада [74]. Характеризуя отношения между производителями и потребителями медицинских услуг в условиях рынка, необходимо отметить их высокую социальную значимость, с одной стороны, и многогранность с другой [7, 80]. К сожалению, консенсус в этих отношениях вещь довольно редкая, что нарушает весьма хрупкий баланс взаимоотношений сторон [79].
Психологическая сторона отношений "врач - пациент" важная составляющая процесса производства медицинских услуг. Пациент, ориентируется не только на профессионализм, но и на чисто человеческие, личностные качества врача. То есть насколько последний внушает доверие и уважение, внимателен и отзывчив, располагает к себе и вызывает желание общаться. Возможно даже, что в отдельных случаях психологические качества врача, как производителя медицинских услуг, для пациента более важны, чем его уровень профессиональных компетенций.
Преобладание экономического аспекта во взаимоотношениях врача и пациента в дотационных регионах России, таких как ДФО, где не в полном объеме выполняются государственные гарантии финансирования медицинской помощи населению, неизбежно формируется конфликт интересов, что требует построения системы защиты интересов в первую очередь потребителей медицинских услуг. Эта система должна выражаться в формировании разносторонних, сбалансированных законодательных принципов, основанных на гражданско-правовом договоре оказания медицинской помощи, системе страхования профессиональных ответственности врачей и Рисков пациентов, регламентации норм профессиональной этики и разработки программы стандартизации медицинских услуг [48]. Осложняет ситуацию особенности исторического развития ДФО, где проживают представители 145 народов и этнических групп с различными культурными, конфессиональными и языковыми особенностями. Тем не менее, до настоящего времени в регионе сохраняется мейнстрим этнической толерантности [29].
Этническое разнообразие региона и здоровье. На современном этапе развития Дальнего Востока России, формирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) имеет место острая необходимость ориентации социальной политики региона в рамках союза государства и бизнеса с целью повышения качества жизни населения, что, по мнению представителей структур, управляющих регионом, должно снизить уровень миграционных устремлений значительной части дальневосточников. Стратегия успешного функционирования региональной медицины должна строиться исходя из особенностей (социально-экономических, географических, климатических, транспортных и др.), а также с учетом этнического состава дальневосточников, который, несмотря на преобладание русского населения, имеет региональные особенности [45, 64, 78].
В соответствии с велением времени в ДФО стали возникать вполне легитимные объединения, получившие название национально-культурные автономии. Согласно опубликованным данным, в настоящее время в регионе действуют автономии: украинцев (Камчатский край); эвенков (Амурская область); евреев (Еврейская автономная область); евреев, корейцев, татар (Хабаровский край); белорусов, корейцев, украинцев, литовцев, евреев, немцев (Приморский край); эвенков, украинцев, татар (Сахалинская область); чеченцев, эвенков, немцев (Республика Саха (Якутия) [4, 18, 24, 29, 65].
К сожалению, в основе развития собственного человеческого капитала субъектов Российской Федерации в ДФО пока не лежит сбалансированная политика организация медицинской помощи многочисленным этносам региона, исходя из двух основных позиций. Первая - более 95% населения территории представлено пришлым населением не приспособленного к особенностям региона. Вторая - медицинская помощь оказывается без учета личностных и социо-культурных особенностей пациентов. Поскольку пришлое население, составляя основную часть дальневосточников, испытывает на себе влияние факторов климатического, экологического и социально-экономического плана, что в определенной мере формирует особую патологию, которую следует рассматривать в рамках созданной акад. РАН В.П. Казначеевым концепции решения проблем адаптации и экологии человека в экстремальных условиях Сибири и Дальнего Востока [20]. Строительство БАМа, крупных предприятий в городах Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и др. во второй половине ХХ века, а также перевод значительной части добывающих и перерабатывающих производств на вахтовый метод работы в начале XXI века потребовало формирования трудовых ресурсов, обладающих необходимыми характеристиками для инновационного освоения региона. Это потребовало обоснования программ расширения профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни, экологического образования, формирования здоровой семьи для обеспечения роста и сохранение здоровья населения Сибири и Дальнего Востока [19].
К сожалению, при формировании современных программ инновационного развития ДФО результаты проведенных ранее исследований не учитывались, а уж тем более не проводились новые, которые сформировали бы "новое знание" о количественных и качественных характеристиках этно-национального ландшафта ДФО. И, хотя по данным всероссийской переписи населения в национальном составе субъектов РФ ДФО преобладают русские (78,88%) (Табл. 1)., тем не менее, сбрасывать со счетов всю этнографическую палитру региона при планировании видов, объемов и осуществления медицинской помощи дальневосточникам, по крайней мере, контрпродуктивно.
| Национальность | Численность населения | % |
|---|---|---|
| Русские | 4 964 107 | (78,88 %) |
| Якуты | 469 897 | (7,47 %) |
| Украинцы | 154 954 | (2,46 %) |
| Корейцы | 56 973 | (0,91 %) |
| Татары | 40 003 | (0,64 %) |
| Эвенки | 27 030 | (0,43 %) |
| Белорусы | 24 502 | (0,39 %) |
| Эвены (ламуты) | 22 172 | (0,35 %) |
| Узбеки | 19 561 | (0,31 %) |
| Армяне | 19 157 | (0,30 %) |
| Азербайджанцы | 16 150 | (0,26 %) |
| Чукчи | 15 396 | (0,24 %) |
| Нанайцы | 11 784 | (0,19 %) |
| Буряты | 10 942 | (0,17 %) |
| Киргизы | 9 562 | (0,15 %) |
| Китайцы | 8 788 | (0,14 %) |
| Мордва | 8 618 | (0,14 %) |
| Немцы | 8 141 | (0,13 %) |
| Таджики | 7 891 | (0,13 %) |
| Коряки | 7 723 | (0,12 %) |
| Чуваши | 7 402 | (0,12 %) |
| Башкиры | 6 784 | (0,11 %) |
| Молдаване | 6 683 | (0,11 %) |
| Казахи | 4 687 | (0,07 %) |
| Евреи | 4 626 | (0,07 %) |
| Нивхи | 4 544 | (0,07 %) |
| Ительмены | 3 092 | (0,05 %) |
| Марийцы | 2 771 | (0,04 %) |
| Ульчи | 2 700 | (0,04 %) |
| Лица, не указавшие национальность | 295 359 | (4,69 %) |
В составе коренного "дорусского" населения Сибири и Дальнего Востока можно выделить ряд антропологических типов, исторически сложившихся на определенных территориях и входящих в различные этнические группы. В целом это население характеризуется преобладанием монголоидных антропологических признаков и антропологически относится к различным вариантам монголоидной большой расы [31]. Особое место в занимает группа этнических меньшинств - это "Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" [51, 42]. Именно они оказались весьма уязвимыми в социальном плане на этапе перехода от политики государственного патернализма, реализованного в СССР, к рыночным трансформациям современной России. Это привело к резкому падению качества жизни коренного населения, выразившемуся в снижении уровня доходов семей коренных малочисленных народов, маргинализации и люмпенизации, ориентации на выживание за счет местных ресурсов на фоне сокращения объемов традиционного природопользования [26, 29, 76]. Как отметил американский исследователь Д. Фишман: "Антропология и социология, наконец, признали действительную обоснованность кошмара примордиалистов: народы, утратившие свой исторический язык и традиционно связанную с ним этнокультуру, испытывают на себе мучительный опыт пребывания "между жизнью и смертью" [52].
Сегодня, в условиях реализации либеральных экономических реформ в ДФО, ограничения доступности медицинской помощи для представителей коренного населения не следует сбрасывать со счетов факт существования народной медицины нанайцев, ульчей, удэгейцев, орочей, ороков, эвенков, эвенов, негидальцев и нивхов. Причем народная медицина этносов эпохи колыбельной цивилизации являются органической частью духовности, образа жизни и менталитета народов, издревле живущих на дальневосточной земле. В настоящее время мы становимся свидетелями небывалого всплеска различных видов магического и псевдомагического целительства. Этот неуправляемый процесс государство пытается взять под свой контроль [41].
Трансформация взаимоотношений между врачом и пациентом. По мере укрепления рыночных отношений в XXI веке социальная дифференциация дальневосточного общества продолжалась, однако старые механизмы социальной интеграции были разрушены почти до основания, что сделало очевидным факт того, что ни о какой однородности и едином мейнстриме развития дальневосточного общества речь уже не идет. Эти процессы следует рассматривать через призму концепции индивидуализации Рисков и формирования социальной эксклюзии для различных групп дальневосточников [16, 57]. В большинстве случаев она связана с неадекватной реализацией социальных прав граждан [12]. Именно это явление стало причиной трансформации взаимоотношений между врачом и пациентом, когда основой взаимоотношений становятся не социальный консенсус и этические принципы, а уровень доходов. Американский биоэтик Роберт Витч выделяет четыре базовые модели взаимоотношения врача и пациента (Рис. 1) [9].
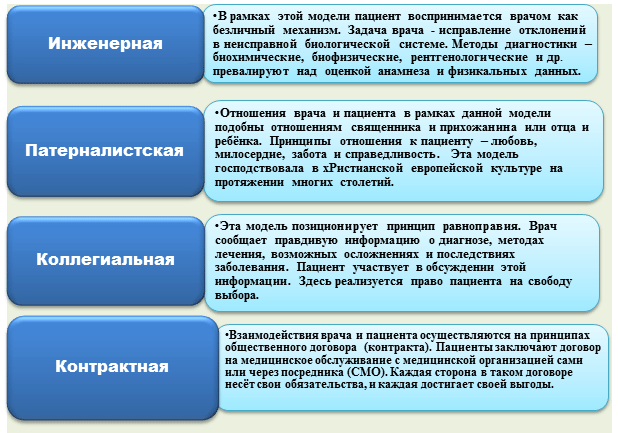
Рис. 1. Модели взаимоотношений врача и пациента по Р. Витчу
Инженерная модель взаимоотношения врача и пациента. В рамках этой модели предполагается, что, поскольку пациент не обладает необходимыми научными знаниями о собственном состоянии, то учет его мнения при выборе лечебных мероприятий не только бесполезен, но и может быть вреден из-за привнесения субъективных оценок. Его личное мнение о собственном благе (здоровье), поскольку оно необъективно и ненаучно, с точки зрения врача довольно часто считается не заслуживающим внимания. В то же время, поскольку врач руководствуется сугубо объективными знаниями, на его выбор не оказывают влияния собственные субъективные предпочтения и интересы. Поэтому властное доминирование врача признается не только естественным, но и приемлемым для пациента [6].
Патерналистская модель взаимоотношения врача и пациента. Патернализм был и остается абсолютным принципом в медицинской этике на протяжении двух тысячелетий. Полагаем, что эта модель взаимоотношений переживет и смену парадигм в биомедицинской этике эпохи постмодерна. Он остаётся основным принципом в педиатрии, психиатрии и гериатрии. В условиях рыночной экономики патернализм применим в отношениях производителя медицинских услуг (врача) и потребителя (пациента), который в силу своего общекультурного и образовательного уровня не способен адекватно воспринимать медицинскую информацию, сообщаемую производителем, а иногда и не желает вникать в подробности и нюансы своего диагноза и лечения, полностью полагаясь на мнение лечащего врача. В современной медицине такая модель остается наиболее предпочтительной и самой распространённой.
Коллегиальная модель взаимоотношений врача и пациента. В основе этой модели лежит принцип равноправия. Врач сообщает правдивую информацию о диагнозе, методах лечения, возможных осложнениях и последствиях заболевания. На общение между врачом и пациентом влияют гендерные, психологические, статусные особенности личности участников коммуникации. Современное поликультурное, поликонфессиональное, полиэтническое общество оказывает влияние на коммуникативные аспекты медицинского дискурса, способствует возникновению особых ситуаций при ведении пациентов разной этнической и религиозной принадлежности.
Контрактная модель взаимоотношений врача и пациента. По мнению Роберта Витча, именно эта модель в наибольшей степени защищает моральные ценности автономной личности. В рамках контрактной модели "...индивидуумы и группы взаимодействуют между собой таким образом, что каждая из сторон несет определенные обязательства и каждая достигает некоторых выгод... Основные моральные принципы свободы, сохранения достоинства, правдивости, верности принятым обязательствам и справедливости важны для реализации контрактных отношений".
В условиях рыночной экономики пациенту хотелось бы сохранить романтические представления о профессии врача, однако суровая действительность препятствует этим представлениям. Личность врача в современном обществе уже не представляется носителем чудодейственного знания, которое способно излечить пациента, предотвратить его смерть, облегчить роды, прервать лихорадку и предотвратить смерть. Принимая тезис о врачевании, как об искусстве, возникает Риск стать объектом критики сторонников современного подхода к медицине, которые считают, что медицинская помощь это производство медицинских услуг, а врач это технический работник, имеющий специальный документ (лицензию), удостоверяющий его право на их производство. У обоих подходов, кроме явного различия, имеется сходство с точки зрения морали [23].
Никогда ещё пациенты отечественных больниц и поликлиник не были так недовольны своими врачами, а медицинские работники с недоумением и душевной болью вынуждены признать, что отечественная медицина переживают глубокий кризис дегуманизации. Неуловимая, сложная, зачастую почти неощутимая связь между врачом и пациентом, которая культивировалась веками, в одночасье оказалась разорванной. Дегуманизация, как отражение кризиса современного клинического подхода и нарастание стандартизации в производстве медицинских услуг постепенно превращает медицинскую помощь в "фабрику" призванную "ковать" здоровье [13].
Незаметно для обеих сторон произошла подмена исцеления, основанного на взаимной привязанности и доверии, на производство медицинских услуг и больничный уход в виде стандартных технологических процедур и бесстрастного выполнения должностных обязанностей. Из производства медицинских услуг (медицинской помощи) постепенно исчезло умение слушать и оценивать сказанное пациентом (жалобы, анамнез, причину обращения к врачу и т.п.). Сегодня лечащих врачей не интересуют вопросы этнического типа пациента, культурные традиции его семьи, отношения к той или иной конфессии и т.п. Концентрация усилий врачей стала сводиться к оценке данных лабораторной и инструментальной диагностики. Большинство лечащих врачей больше не изучает личность пациента, а лишь "ремонтирует" отдельные, неправильно работающие части "биологической системы". При этом душевное состояние пациента и уровень его страданий чаще всего не учитывается [70].
Вполне определенно, что исправить ситуацию мог бы "нарративный поворот" в медицине [32], который основан на оценке личных историй пациентов в сочетании с семейным подходом, когда рассказ о страданиях, часто обреченного на одиночество пациента, будет выслушан и найдет отклик лечащего врача. Английский ученый историк Арнольд Дж. Тойнби и японский общественный деятель Дайсаку Икеда рассуждая о личности врача говорили: "Он друг и доверенный для всех членов семьи, которую посещает, и он эффективно использует свои профессиональные навыки в своей области, потому что применяет их при добром понимании своих пациентов и при гуманном отношении к ним, основанном на взаимном уважении и доверии" [50].
Перспективы медицинской помощи в условиях этнического разнообразия. Во второй половине ХХ века в рамках отдельных международных научных конференций всё чаще стали рассматриваться вопросы отношения пациентов и врачей к жизни и смерти, здоровью и нездоровью. Вполне естественно, что шло сопоставление организационных моделей официальной "европейской" и традиционной медицины. Одной из первых таких конференций была конференция по азиатским медицинским системам, где параллельно с исследованиями народных систем врачевания были рассмотрены классические медицинские традиции в восточных сообществах - Аюрведа, Унани тибб, Сиддха, Эмчи, китайская медицина и др. К концу ХХ века медицинская антропология сделала несколько шагов вперёд. Однако попытки сформировать консенсус между сложным медицинским системами и прикладной медицинской антропологией пока не увенчались успехом [71, 75]. Была уточнена роль различных форм народной и неконвенциональной медицины в современном мире и их вклад в охрану здоровья [58, 63], антропологические представления о месте традиционной (народной) медицины в системе здравоохранения [40, 75]. Кроме того, был исследован шаманизм, как альтернатива официальной медицине [3, 8, 39].
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не осталась в стороне от этих процессов. Путь, пройденный ВОЗ от момента принятия Алма-Атинской декларации (1978) до второй Пекинской декларации (2008), оказался значительным. ВОЗ изменила свою политику в отношении народной медицины от прагматизма, граничащего с пренебрежением, к благожелательной заинтересованности и широкой поддержке. Важную роль в изменении позиции ВОЗ сыграла позиция азиатских стран, прежде всего, Китая. Возможность привлечения народных целителей к решению задач первичной медико-санитарной помощи означало, что необходимо избавиться от стереотипов, царивших в прошлом. Антропологи предложили, прежде всего, отказаться от теоретико-методологического противопоставления "современной" и "традиционной медицины".
В настоящее время медицинская антропология входит самостоятельным разделом в систему интегративно-антропологических наук и изучает индивидуально-типологическую изменчивость фенотипа и психобиологические особенности личности пациента для оценки их клинико-патогенетического, прогностического и терапевтического значения. Исходя из этого, следует, что клинико-антропологический подход переносит акцент на изучение факторов и форм межиндивидуальной изменчивости морфофункционального, онтогенетического, полового, соматопсихического, этнического, экологического и социального характера. При такой ориентации клинический полиморфизм изучаемой патологии сопоставляется с гетерогенностью биологии человека и этносоциокультурной, экологической средой его обитания [27]. Специалисты, представляющие медицинскую антропологию, различают "заболевание" и "недуг" (disease и illness) как медицинское и социокультурное понимание явления. Под влиянием символизма и герменевтической традиции антропологические исследования недугов фокусируются на когнитивных и символических измерениях явления, на тех понятиях, ситуациях, симптомах и ощущениях, которые связаны с недомоганием и придают ему смысл в представлениях страдающего [56, 73].
Социальные и культурные факторы не только влияют на определение заболевания, но и обусловливают доступность различных способов лечения и собственно врачей для разных сегментов общества. Типы медицинских систем классифицируются по степени их открытости разным целительским практикам: так, в первую классификацию Я. Степана [77] входят монополистическая, толерантная, смешанная, инклюзивная, интегрированная медицинские системы. В монополистических системах разные целительские подходы и практики конфликтуют между собой за власть. В качестве примера эксклюзивной, или монополистической системы обычно приводят медицину СССР. В ней только медицинские работники были вправе оказывать медицинскую помощь и уже к 1930-м гг. были по сути дела ликвидированы все профессиональные группы целителей [36]. Однако целители в силу того, что они думают, как пациенты, разделяют с пациентами их мифы о причинах страданий и способах их преодоления оставались востребованными в силу того, в популяции всегда существует некоторое количество людей, которые предпочтут услуги целителей услугам представителей официальной медицины" [22].
Этническое разнообразие Дальнего Востока России предполагает и то, что организация медицинской помощи дальневосточникам должна строиться с учетом того, что лечащему врачу придется постоянно сталкиваться с пациентами разных рас, народов и этнических групп. В связи с этим диагностика, лечение, профилактика и реабилитация должны будут осуществляться в условиях особой этносоциокультурной среды. В таком случае меняется содержание вопросов, задаваемых пациенту при сборе общего и семейного анамнеза. На этой основе могут возникнуть номинативные, тематические и поведенческие табу. К ним, например, могут относиться жесты, которые наряду с мимикой довольно часто несут невербальную информацию об истинном состоянии организма человека, поскольку имеют рефлекторную природу.
Знание этнокультурных особенностей мимики и жестов во многих случаях помогает врачу избежать недоразумений в общении. Таким образом, врачу, равно, как и пациенту важно учитывать диалектику национального и общечеловеческого, внутрикультурного и межкультурного, личностного и коллективного. Коммуникативная толерантность необходима как производителю, так и потребителю медицинских услуг, особенно в условиях расширения миграционных потоков в ДФО начала XXI века. Так в мусульманских странах левая рука считается "нечистой", поэтому врачу следует подавать рецепты, лекарства пациенту правой рукой, или еще лучше - обеими руками. Демонстрируя свое уважение к лечащему врачу, буддисты будут подавать предметы обеими руками или правой рукой, поддерживая её под локтем кистью левой руки. Этого же они будут ждать и от него. Русский жест "до свидания" может быть воспринят японцами как "иди сюда", а для грека он будет оскорбителен, т.к. напоминает жест "забрасывание грязью". Жест головой "да" и "нет" у греков, турок и болгар, имеющих прямо противоположное значение, по сравнению с другими европейцами. Жест "O Key" (большой и указательный палец вместе), получающий все большее распространение среди молодежи, в России и Америке означает "все отлично", а в Португалии и Венесуэле - неприличный жест, в Греции - "отстань" и т.п. http://credo-new.ru/?p=562 - _edn10
Коммуникативные помехи могут возникать и в тех случаях, когда лечащий врач не адаптировал свой вербальный уровень презентации информации к уровню интеллектуальным, культурным и речевым особенностям пациента. В этих обстоятельствах пациент может недопонять значение терминов, и как следствие, принять неправильное решение. Устный медицинский дискурс способен вербализировать далеко не все компоненты, из которых он складывается. Значительная их часть остается на уровне интуитивного знания и невербальных аспектов общения, подчиняющихся закономерностям психической организации индивида - субъекта общения.
Заключение
|
 |
 |
Научный прогресс, опережающее развитие медицинских технологий, переход от оказания медицинской помощи к производству медицинских услуг с последующей их оплатой в условиях рынка привел к тому, роль лечащего врача стала трансформироваться. Эта трансформация не так безобидна, как кажется на первый взгляд. В рамках исключительно юридического понятия "информированное согласие" врач всё чаще исполняет роль консультанта, советчика или компетентного эксперта-профессионала, формирующего принятие решения пациентом, и информирующего пациента о состоянии его здоровья, пользе и Риске возможных медицинских вмешательств.
Взаимоотношения врача и пациента все чаще переходят на "деловые" рельсы производства и продажи медицинских услуг, а медицинская помощь становится бизнесом. Этические и этносоциокультурные основы взаимоотношений производителя (врача) и потребителя (пациента) с точки зрения бизнеса становятся неуместным атрибутом. Насколько это отвечает интересам общества и правильно ли выбрана стратегия трансформации взаимоотношений врача и пациента? Однозначного ответа на этот вопрос пока не найдено. В контексте поиска ответа на него следует привести довольно прогрессивное для своего времени (1966) высказывание писателя и члена Французской академии Андре Моруа (?mile-Salomon-Wilhelm Herzog, 1885-1967) в заключительном докладе на Международном конгрессе по врачебной этике: "Завтра, как и сегодня, будут больные, завтра, как и сегодня, понадобятся врачи. Медицинская наука станет ещё точней, её оснащение приумножится, но рядом с ней, как и сегодня будет стоять, сохранит своё место в медицине врач классического типа - тот, чьим призванием останется человеческое общение с пациентом. И, как прежде, он будет утешать страдальцев, и ободрять павших духом. Появятся новые чудеса. И появится новая ответственность. Медики всех стран будут, как и сегодня, связаны единой врачебной моралью. Завтра, как и сегодня, человек в медицинском халате будет спасать жизнь страждущему, кто бы он ни был - друг или недруг, правый или виноватый. И жизнь врача останется такой же, как и сегодня, - трудной, тревожной, героической и возвышенной" [30].
К сожалению, в XXI веке, медицинская профессия теряет свою значимость, число посредственных врачей в отечественной медицине, как это не прискорбно, - увеличивается. Отбор студентов в высшую медицинскую школу ограничивается результатами ЕГЭ без учета нравственных и моральных качеств будущего врача, что в значительной мере стимулирует обучению этой профессии случайных людей. Косность и отсталость отечественной высшей медицинской школы не позволяет ввести собеседование с абитуриентами специальной этической комиссии преподавателей вуза до начала вступительных экзаменов. При этом, мы полагаем, что "весовой" коэффициент результатов собеседования должен конкурировать со значимостью результатов ЕГЭ.
Кроме того, в программах подготовки будущих врачей недостаточен объем учебных материалов по национальным культурным традициям народов России. А ведь именно понятие антропология в историческом плане является наукой о человеческом теле (анатомический контекст) и душе человека (духовный контекст), а медицинская антропология существует на границе социальной, культурной и биологической антропологии, которая изучает факторы, определяющие уровень здоровья, благополучия и качества жизни, как индивидов, так и социальных групп российского общества.
В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения следует донести до сознания будущих врачей очевидные культурные различия, существующие у разных этносов по поводу представлений о болезнях и способах их распространения, практик их лечения и профилактики, а также социальных институтов, которые возникают в связи с этим. Такой подход позволит приблизиться к оптимальному консенсусу взаимоотношений врача и пациента в условиях либеральной трансформации российского общества.
Список литературы |
 |
 1. Алексеева, Т.И. Адаптивные процессы в человеческих популяциях. М.: Изд-во МГУ, 1986.
1. Алексеева, Т.И. Адаптивные процессы в человеческих популяциях. М.: Изд-во МГУ, 1986.  2. Анохин, П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 1975.
2. Анохин, П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 1975. 3. Бельды, О.А. Нанайский шаманизм в истории и культуре коренных народов Приамурья и Приморья: Середина XIX - XX вв. Автореф. к.к.н., Санкт-Петербург. 1999 г. 29 с.
3. Бельды, О.А. Нанайский шаманизм в истории и культуре коренных народов Приамурья и Приморья: Середина XIX - XX вв. Автореф. к.к.н., Санкт-Петербург. 1999 г. 29 с. 4. Бельды, О.А. Этнокультурное образование в полиэтническом пространстве Хабаровского края// Проблемы высшего образования: материалы межд. науч.-метод.конф. Хабаровск, 8-10 апреля 2015 г./под. ред. Т.В.Гомза. - г.Хабаровск, Изд-во Тихоокеан.гос.ун-та, 2015. 297 с. - С. 91-92.
4. Бельды, О.А. Этнокультурное образование в полиэтническом пространстве Хабаровского края// Проблемы высшего образования: материалы межд. науч.-метод.конф. Хабаровск, 8-10 апреля 2015 г./под. ред. Т.В.Гомза. - г.Хабаровск, Изд-во Тихоокеан.гос.ун-та, 2015. 297 с. - С. 91-92. 5. Бельды, О.А. Этнокультурное образование в полиэтническом пространстве Хабаровского края//Асмолов А.Г., Баринова Т.М., Бельды О.А. и др. Коллективная монография / Составители У.А.Винокурова, С.С.Семенова. Якутск, 2015. Сер. Этнокультурное образование. Выпуск 1. 416 с. - С. 279-291.
5. Бельды, О.А. Этнокультурное образование в полиэтническом пространстве Хабаровского края//Асмолов А.Г., Баринова Т.М., Бельды О.А. и др. Коллективная монография / Составители У.А.Винокурова, С.С.Семенова. Якутск, 2015. Сер. Этнокультурное образование. Выпуск 1. 416 с. - С. 279-291. 6. Болучевская, В.В., Павлюкова, А.И., Сергеева, Н.В. Общение врача: особенности профессионального взаимодействия. (Лекция 3). [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2011. N 3. URL: http:// medpsy.ru (дата обращения: 16.01.2016).
6. Болучевская, В.В., Павлюкова, А.И., Сергеева, Н.В. Общение врача: особенности профессионального взаимодействия. (Лекция 3). [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2011. N 3. URL: http:// medpsy.ru (дата обращения: 16.01.2016). 7. Бромлей, Ю.В., Воронов, А.А. Народная медицина как предмет этнографических исследований // Советская этнография. 1976. №5. С.3-18.
7. Бромлей, Ю.В., Воронов, А.А. Народная медицина как предмет этнографических исследований // Советская этнография. 1976. №5. С.3-18.  8. Булгакова, Т.Д. Шаманство в традиционной культуре: системный анализ. Санкт-Петербург, Издательство РГПУ имени А. И. Герцена, 2001. 166 с.
8. Булгакова, Т.Д. Шаманство в традиционной культуре: системный анализ. Санкт-Петербург, Издательство РГПУ имени А. И. Герцена, 2001. 166 с.  9. Витч, Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений / Р.Витч // Вопросы философии. - 1994. - № 3. - С.67-72.
9. Витч, Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений / Р.Витч // Вопросы философии. - 1994. - № 3. - С.67-72. 10. Власова, О.А. Болезнь как новый антропологический горизонт: критическая антропология Ивана Иллича // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. 2013. №2 (14). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/bolezn-kak-novyy-antropologicheskiy-gorizont-kriticheskaya-antropologiya-ivana-illicha (дата обращения: 24.08.2016).
10. Власова, О.А. Болезнь как новый антропологический горизонт: критическая антропология Ивана Иллича // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. 2013. №2 (14). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/bolezn-kak-novyy-antropologicheskiy-gorizont-kriticheskaya-antropologiya-ivana-illicha (дата обращения: 24.08.2016). 11. Всероссийская перепись населения. 2010 г. Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство. - http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
11. Всероссийская перепись населения. 2010 г. Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство. - http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 12. Гомьен, Д., ХарРис, Д., Зваак, Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1998. 156 с.
12. Гомьен, Д., ХарРис, Д., Зваак, Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1998. 156 с. 13. Готлиб, А.С. Нарративная медицина глазами российских врачей: попытка эмпирического анализа // //Вестник Самарского государственного университета, - 2010. - №5(79). С. 64.
13. Готлиб, А.С. Нарративная медицина глазами российских врачей: попытка эмпирического анализа // //Вестник Самарского государственного университета, - 2010. - №5(79). С. 64. 14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011).
14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011). 15. Давыдовский, И.В. Методологические основы патологии // Вопр. философии. 1968. № 5. С. 93-94.\
15. Давыдовский, И.В. Методологические основы патологии // Вопр. философии. 1968. № 5. С. 93-94.\ 16. Дьяченко, В.Г., Пригорнев, В.Б., Солохина, Л.В. и др. Здравоохранение Дальнего Востока России в условиях рыночных реформ. Под редакцией В.Г. Дьяченко. Хабаровск. 2013. Изд. Центр ГБОУ ВПО ДВГМУ. 684 с.
16. Дьяченко, В.Г., Пригорнев, В.Б., Солохина, Л.В. и др. Здравоохранение Дальнего Востока России в условиях рыночных реформ. Под редакцией В.Г. Дьяченко. Хабаровск. 2013. Изд. Центр ГБОУ ВПО ДВГМУ. 684 с. 17. Дьяченко, В. Г. Состояние здоровья пришлого и коренного населения Хабаровского края и организация медицинской помощи в условиях социальных, политических и экономических реформ 90-х годов/ В. Г. Дьяченко, В. Б. Пригорнев // Состояние здоровья коренных народов Приамурья. - Хабаровск, 1998.
17. Дьяченко, В. Г. Состояние здоровья пришлого и коренного населения Хабаровского края и организация медицинской помощи в условиях социальных, политических и экономических реформ 90-х годов/ В. Г. Дьяченко, В. Б. Пригорнев // Состояние здоровья коренных народов Приамурья. - Хабаровск, 1998. 18. Ерофеев, Ю.И. Национально-культурные автономии: статистика и комментарий. М. 2010
18. Ерофеев, Ю.И. Национально-культурные автономии: статистика и комментарий. М. 2010 19. Казначеев, В.П. Кто отвечает за сохранение нации, ее здоровье на востоке нашей страны. Сборник докладов участников международной научно-практической конференции "Глобальные проблемы ноосферы: природа, человек, общество, культура". 26-27 сентября 2009 г. - Новосибирск: ЗСО МСА, 2009 г. - 250 с.
19. Казначеев, В.П. Кто отвечает за сохранение нации, ее здоровье на востоке нашей страны. Сборник докладов участников международной научно-практической конференции "Глобальные проблемы ноосферы: природа, человек, общество, культура". 26-27 сентября 2009 г. - Новосибирск: ЗСО МСА, 2009 г. - 250 с. 20. Казначеев, В.П., Поляков, Я.В., Акулов, А.И., Мингазов, И.Ф. Проблемы "Сфинкса ХХ1 века". Выживание населения России. - Новосибирск: Наука, 2000. - 232 с.
20. Казначеев, В.П., Поляков, Я.В., Акулов, А.И., Мингазов, И.Ф. Проблемы "Сфинкса ХХ1 века". Выживание населения России. - Новосибирск: Наука, 2000. - 232 с. 21. Казначеев, В. П. Очерки теории и практики экологии человека. М., 1983.-260 с.
21. Казначеев, В. П. Очерки теории и практики экологии человека. М., 1983.-260 с. 22. Карагодина, Е.Г. Биоэнергоинформационное целительство и социальная психиатрия: От частного к универсальному //Таврический журн. психиатрии. - 2000. - Т.4, №3. - С.65-67.
22. Карагодина, Е.Г. Биоэнергоинформационное целительство и социальная психиатрия: От частного к универсальному //Таврический журн. психиатрии. - 2000. - Т.4, №3. - С.65-67. 23. Карсон, Р. Становление диалога между доктором и пациентом/ Р. Карсон //Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия, 1998, № 5.- С. 34.
23. Карсон, Р. Становление диалога между доктором и пациентом/ Р. Карсон //Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия, 1998, № 5.- С. 34. 24. Ким, А.С. Этнополитические исследования современных диаспор (конфликтологический аспект). Автореф. дисс. докт полит. н. Санкт-Петербург. 2009. 42 с.
24. Ким, А.С. Этнополитические исследования современных диаспор (конфликтологический аспект). Автореф. дисс. докт полит. н. Санкт-Петербург. 2009. 42 с. 25. Ковешников, В.Г., Никитюк, Б.А. Медицинская антропология. Киев: Здоровья, 1992. 200 с.
25. Ковешников, В.Г., Никитюк, Б.А. Медицинская антропология. Киев: Здоровья, 1992. 200 с.  26. Козлов, А.И. Здоровье коренного населения Севера РФ: на грани веков и культур: монография / А.И. Козлов, М.А. Козлова, Г.Г. Вершубская, А.Б. Шилов; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. [и др.]. 2-е изд. - Пермь: ОТ и ДО, 2013. - 205 с..
26. Козлов, А.И. Здоровье коренного населения Севера РФ: на грани веков и культур: монография / А.И. Козлов, М.А. Козлова, Г.Г. Вершубская, А.Б. Шилов; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. [и др.]. 2-е изд. - Пермь: ОТ и ДО, 2013. - 205 с.. 27. Корнетов, Н.А. Клиническая антропология - методологическая основа целостного подхода в медицине (Editorial) // Biomedical & Biosocial Anthropology. 2004. № 2. P. 101-105.
27. Корнетов, Н.А. Клиническая антропология - методологическая основа целостного подхода в медицине (Editorial) // Biomedical & Biosocial Anthropology. 2004. № 2. P. 101-105. 28. Корнетов, Н.А. Концепция клинической антропологии в медицине// Бюллетень сибирской медицины. - 2008. - № 1. - С.7-30.
28. Корнетов, Н.А. Концепция клинической антропологии в медицине// Бюллетень сибирской медицины. - 2008. - № 1. - С.7-30. 29. Кузнецов, А. М. Этнополитическая ситуация на Дальнем Востоке России: некоторые проблемы и перспективы // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2012. №1 (20). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/etnopoliticheskaya-situatsiya-na-dalnem-vostoke-rossii-nekotorye-problemy-i-perspektivy (дата обращения: 02.10.2016).
29. Кузнецов, А. М. Этнополитическая ситуация на Дальнем Востоке России: некоторые проблемы и перспективы // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2012. №1 (20). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/etnopoliticheskaya-situatsiya-na-dalnem-vostoke-rossii-nekotorye-problemy-i-perspektivy (дата обращения: 02.10.2016). 30. Лазебник, Л.Б. Этика и деонтология в гериартрии (К 50-летию Хельсинской декларации). Клиническая геронтология. 2014. 1-2. (Т.20). С. 3-13.
30. Лазебник, Л.Б. Этика и деонтология в гериартрии (К 50-летию Хельсинской декларации). Клиническая геронтология. 2014. 1-2. (Т.20). С. 3-13. 31. Левин, М.Г. Антропологические типы Сибири и Дальнего Востока // Советская этнография. - М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1950. - Вып. 2. - С. 53-64.
31. Левин, М.Г. Антропологические типы Сибири и Дальнего Востока // Советская этнография. - М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1950. - Вып. 2. - С. 53-64. 32. Лехциер, В.Л. Нарративный поворот и актуальность нарративного разума. Нарративные повороты // Общество ремиссии: на пути к нарративной медицине: сб. науч. тр. под общ. ред. В. Л. Лехциера. Самара: Самарский университет. 2012. С. 5-9.
32. Лехциер, В.Л. Нарративный поворот и актуальность нарративного разума. Нарративные повороты // Общество ремиссии: на пути к нарративной медицине: сб. науч. тр. под общ. ред. В. Л. Лехциера. Самара: Самарский университет. 2012. С. 5-9. 33. Лобода, О.В., Яруллин, И.Ф. "Новое" освоение Дальнего Востока: К постановке проблемы этнического сдвига. Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. Изд. Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровск). 2013. № 4. С 128-135.
33. Лобода, О.В., Яруллин, И.Ф. "Новое" освоение Дальнего Востока: К постановке проблемы этнического сдвига. Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. Изд. Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровск). 2013. № 4. С 128-135. 34. Мирошникова, О.В., Гребенюк, М.О. Методология толерантности в реализации принципа уважения автономии пациента // Биоэтика. - 2010. - № 1. - С. 16-18.
34. Мирошникова, О.В., Гребенюк, М.О. Методология толерантности в реализации принципа уважения автономии пациента // Биоэтика. - 2010. - № 1. - С. 16-18. 35. Мирошникова, О.В., Рева, И.Е. Методология толерантности в социальном пространстве города // Социология города. - № 3. - 2011. - 0,3 п.л.
35. Мирошникова, О.В., Рева, И.Е. Методология толерантности в социальном пространстве города // Социология города. - № 3. - 2011. - 0,3 п.л. 36. Михель, Д.В. Медицинская антропология: история развития дисциплины: учеб. пособ. для студ. - Саратов: Изд-во "Техно-Декор", 2010.-84 с.
36. Михель, Д.В. Медицинская антропология: история развития дисциплины: учеб. пособ. для студ. - Саратов: Изд-во "Техно-Декор", 2010.-84 с. 37. Надточий, Л. А., Смирнова, С. В., Бронникова, Е.П. Депопуляция коренных и малочисленных народов и проблема сохранения этносов Северо-Востока России // Экология человека. 2015. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/depopulyatsiya-korennyh-i-malochislennyh-narodov-i-problema-sohraneniya-etnosov-severo-vostoka-rossii (дата обращения: 30.09.2016).
37. Надточий, Л. А., Смирнова, С. В., Бронникова, Е.П. Депопуляция коренных и малочисленных народов и проблема сохранения этносов Северо-Востока России // Экология человека. 2015. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/depopulyatsiya-korennyh-i-malochislennyh-narodov-i-problema-sohraneniya-etnosov-severo-vostoka-rossii (дата обращения: 30.09.2016). 38. Петров, А.В., Мирошникова, О.В. Толерантность как ценность культуры современного общества// Биоэтика. - 2011. - № 2. - С. 5-7.
38. Петров, А.В., Мирошникова, О.В. Толерантность как ценность культуры современного общества// Биоэтика. - 2011. - № 2. - С. 5-7. 39. Плужников, Н.В. Отражение межэтнических контактов в сибирском шаманстве ХIХ-ХХ вв. Автореф. дисс. к.и.н., Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. М иклухо-Маклая РАН. 1999. 29 с.
39. Плужников, Н.В. Отражение межэтнических контактов в сибирском шаманстве ХIХ-ХХ вв. Автореф. дисс. к.и.н., Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. М иклухо-Маклая РАН. 1999. 29 с. 40. Подмаскин, В. В. Этнические особенности в сохранении здоровья народов юга Дальнего Востока- Владивосток: Дальнаука, 2003
40. Подмаскин, В. В. Этнические особенности в сохранении здоровья народов юга Дальнего Востока- Владивосток: Дальнаука, 2003 41. Поповкина, Г.С. Знахари и знахарство у восточных славян юга Дальнего Востока России. - Владивосток: Дальнаука, 2008. - 200 с.
41. Поповкина, Г.С. Знахари и знахарство у восточных славян юга Дальнего Востока России. - Владивосток: Дальнаука, 2008. - 200 с. 42. Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2006 N 536-р (ред. от 18.05.2010) "Об утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".
42. Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2006 N 536-р (ред. от 18.05.2010) "Об утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".  43. Ригельман, Ричард К. Как избежать врачебных ошибок. Книга практикующих врачей. Перевод с англ. Амчекова. М. 1994. - С. 116. (http://lib.rus.ec/b/217050/read)
43. Ригельман, Ричард К. Как избежать врачебных ошибок. Книга практикующих врачей. Перевод с англ. Амчекова. М. 1994. - С. 116. (http://lib.rus.ec/b/217050/read) 44. Рыбаковский, Л.Л. Население Дальнего Востока за 150 лет. М.: Наука, 1990. 168 с.
44. Рыбаковский, Л.Л. Население Дальнего Востока за 150 лет. М.: Наука, 1990. 168 с. 45. Сагитова, И.О. Диаспоральные общины Приморского края: история и современность. Владивосток. Российская таможенная академия. Владивостокский филиал. 2007.
45. Сагитова, И.О. Диаспоральные общины Приморского края: история и современность. Владивосток. Российская таможенная академия. Владивостокский филиал. 2007. 46. Силуянова, И.В. Этика врачевания: современная медицина и православие. М.: Изд-во Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 2001
46. Силуянова, И.В. Этика врачевания: современная медицина и православие. М.: Изд-во Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 2001 47. Силуянова, И.В. Руководство по этико-правовым основам медицинской деятельности". М.: МЕДпресс-информ,2008.- 224с.
47. Силуянова, И.В. Руководство по этико-правовым основам медицинской деятельности". М.: МЕДпресс-информ,2008.- 224с. 48. Сучкова, Т.Е. О юридической ответственности медицинских работников при совершении ими профессиональных правонарушений // Медицинское право. 2011. № 6. С. 35.
48. Сучкова, Т.Е. О юридической ответственности медицинских работников при совершении ими профессиональных правонарушений // Медицинское право. 2011. № 6. С. 35. 49. Тайити, Оно. Производственная система Тойоты: уходя от массового производства. - М: Издательство ИКСИ, 2012.
49. Тайити, Оно. Производственная система Тойоты: уходя от массового производства. - М: Издательство ИКСИ, 2012. 50. Тойнби, А., Икеда, Д. Избери жизнь. Диалог Арнольда Дж. Тойнби и Дайсаку Икеды / перевод с английского Ю.М. Канцура. - М,: Изд-во МГУ, 2007. - С.112.
50. Тойнби, А., Икеда, Д. Избери жизнь. Диалог Арнольда Дж. Тойнби и Дайсаку Икеды / перевод с английского Ю.М. Канцура. - М,: Изд-во МГУ, 2007. - С.112. 51. Федеральный закон Российской Федерации от 20.07.2000 г. № 104-ФЗ "Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".
51. Федеральный закон Российской Федерации от 20.07.2000 г. № 104-ФЗ "Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации". 52. Фишман, Д. Сегодняшние споры между примордиалистами и конструктивистами: связь языка с этничностью с точки зрения учёных и повседневной жизни // Логос. 2005. № 5. С. 132-140.
52. Фишман, Д. Сегодняшние споры между примордиалистами и конструктивистами: связь языка с этничностью с точки зрения учёных и повседневной жизни // Логос. 2005. № 5. С. 132-140. 53. Хрусталев, Ю.М. Философия науки и медицины: учебник. Хрусталев Ю.М. 2009. - 784 с.
53. Хрусталев, Ю.М. Философия науки и медицины: учебник. Хрусталев Ю.М. 2009. - 784 с. 54. Эфроимсон, В.П. Родословная альтруизма // Новый мир. 1971. № 10. C. 158-166.
54. Эфроимсон, В.П. Родословная альтруизма // Новый мир. 1971. № 10. C. 158-166. 55. Ярская-Смирнова, Е.Р., Романов, П.В., Михель, Д.В. Социальная антропо-логия современности: теория, методология, методы, кейс-стади. Саратов: Научная книга, 2004. С.61-106.
55. Ярская-Смирнова, Е.Р., Романов, П.В., Михель, Д.В. Социальная антропо-логия современности: теория, методология, методы, кейс-стади. Саратов: Научная книга, 2004. С.61-106.  56. Ярская-Смирнова, Е.Р., Григорьева, Р. Социальная идентификация народных целителей. Журнал социологии и социальной антропологии. 2006. Том IX. № 1 (34)
56. Ярская-Смирнова, Е.Р., Григорьева, Р. Социальная идентификация народных целителей. Журнал социологии и социальной антропологии. 2006. Том IX. № 1 (34) 57. Abrahamson, P. Postmodern Governing of Social Exclusion: Social Integration or Risk Management // Sociologisk Rapportserie. 1998. N 13.
57. Abrahamson, P. Postmodern Governing of Social Exclusion: Social Integration or Risk Management // Sociologisk Rapportserie. 1998. N 13.  58. Baer, H., Singer, M., Susser, I. Medical Anthropology and the World System. 2 ed. Westport, Ct: Praeger, 2003.
58. Baer, H., Singer, M., Susser, I. Medical Anthropology and the World System. 2 ed. Westport, Ct: Praeger, 2003. 59. Barnet, R. J. Ivan Illich and the Nemesis of Medicine // Medicine, Health Care and Philosophy. - 2003. - Vol. 6.
59. Barnet, R. J. Ivan Illich and the Nemesis of Medicine // Medicine, Health Care and Philosophy. - 2003. - Vol. 6. 60. Bennet M.J. Towards a developmental Model of Intercultural Sensitivity//R. Michael Paige, ed Education for the Intercultural Experience. Yarmouth, ME. Intercultural Press. 1993.
60. Bennet M.J. Towards a developmental Model of Intercultural Sensitivity//R. Michael Paige, ed Education for the Intercultural Experience. Yarmouth, ME. Intercultural Press. 1993. 61. Bunker, J. P. Ivan Illich and Medical Nemesis // Journal of Epidemial Community Health. 2003. Vol. 57. P. 834-927
61. Bunker, J. P. Ivan Illich and Medical Nemesis // Journal of Epidemial Community Health. 2003. Vol. 57. P. 834-927 62. Burkart, E. J. From the Economy to Friendship: My Years Studying Ivan Illich /The Challenges of Ivan Illich: A Collective Reflection. Eds. by L. Hoinacki, C. Mitcham. Albany: State University of New York Press, 2002. P. 157.
62. Burkart, E. J. From the Economy to Friendship: My Years Studying Ivan Illich /The Challenges of Ivan Illich: A Collective Reflection. Eds. by L. Hoinacki, C. Mitcham. Albany: State University of New York Press, 2002. P. 157. 63. Ernst, E. Prevalence of Use of Complementary/Alternative Medicine: A Systematic Review // Bulletin of the World Health Organization. 2000. Vol.78 (2). P.252-257.
63. Ernst, E. Prevalence of Use of Complementary/Alternative Medicine: A Systematic Review // Bulletin of the World Health Organization. 2000. Vol.78 (2). P.252-257. 64. Heleniak, T. Demographic Changes in the Russian Far East. // The Russian Far East and Pacific Asia: unfulfilled potential. Ed. by M.J. Bradshaw. Richmond, Curzon. 2001. P. 127-153
64. Heleniak, T. Demographic Changes in the Russian Far East. // The Russian Far East and Pacific Asia: unfulfilled potential. Ed. by M.J. Bradshaw. Richmond, Curzon. 2001. P. 127-153 65. Hitztaler, S. Ethnography of a Post-Soviet Landscape: Explorary the Dynamics among Forests, Peoples, and Resources Use in Central Kamchatka. Ph D Dissertation. University of Michigan. 2010. 352 p.
65. Hitztaler, S. Ethnography of a Post-Soviet Landscape: Explorary the Dynamics among Forests, Peoples, and Resources Use in Central Kamchatka. Ph D Dissertation. University of Michigan. 2010. 352 p. 66. Illich, I. Body History // Lancet. - 1986. - Vol. 6. - № 2.
66. Illich, I. Body History // Lancet. - 1986. - Vol. 6. - № 2. 67. Illich, I. Limits to Medicine: Medical Nemesis, The Expropriation of Health. -London : Boyars, 1976
67. Illich, I. Limits to Medicine: Medical Nemesis, The Expropriation of Health. -London : Boyars, 1976 68. Illich, I. Medical Ethics: A Call to De-bunk Bio-ethics // Mirror of the Past: Lectures and Addresses, 1978-1990.
68. Illich, I. Medical Ethics: A Call to De-bunk Bio-ethics // Mirror of the Past: Lectures and Addresses, 1978-1990. 69. Leslie, C. (ed.) Asian Medical Systems: A Comparative Study. Berkeley: University of California Press, 1976.
69. Leslie, C. (ed.) Asian Medical Systems: A Comparative Study. Berkeley: University of California Press, 1976. 70. Mishler, E. The discourse of medicine. Norwood, NJ: Ablex, 1984. P. 6.
70. Mishler, E. The discourse of medicine. Norwood, NJ: Ablex, 1984. P. 6. 71. Pool, R., Geissler, W. Medical Anthropology. London: Open University Press,2005.
71. Pool, R., Geissler, W. Medical Anthropology. London: Open University Press,2005. 72. Schipperges, H. Anthropologien in der Geschichte der Medizin // Biologische Anthropologie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1972. Bd. 2. S. 179-214.
72. Schipperges, H. Anthropologien in der Geschichte der Medizin // Biologische Anthropologie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1972. Bd. 2. S. 179-214. 73. Seymour-Smith, Ch. Medical Anthropology // Macmillan Dictionary of Anthropology. London: Macmillan, 1986.
73. Seymour-Smith, Ch. Medical Anthropology // Macmillan Dictionary of Anthropology. London: Macmillan, 1986. 74. Shea B.J., Grimshaw, J.M., Wells, G.A., et al. Making health care safer II: an updated critical analysis of the evidence for patient safety practices. Comparative Effectiveness Review No 211prepared by the Southern California-RAND Evidence-based Practice Center under Contract No 290-2007-10062-I. Rockville, Maryland: Agency for Healthcare Research and Quality, 2013
74. Shea B.J., Grimshaw, J.M., Wells, G.A., et al. Making health care safer II: an updated critical analysis of the evidence for patient safety practices. Comparative Effectiveness Review No 211prepared by the Southern California-RAND Evidence-based Practice Center under Contract No 290-2007-10062-I. Rockville, Maryland: Agency for Healthcare Research and Quality, 2013 75. Singer, M., Baer, H. Introducing Medical Anthropology: A Discipline in Action. Lanham: Altamira Press, 2007.
75. Singer, M., Baer, H. Introducing Medical Anthropology: A Discipline in Action. Lanham: Altamira Press, 2007. 76. Slezkine, Yuri. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism 11 Slavic Review. 1994. Vol. 53. N° 2. P. 414-452.
76. Slezkine, Yuri. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism 11 Slavic Review. 1994. Vol. 53. N° 2. P. 414-452.  77. Stepan, J. Traditional and Alternative Systems of Medicine: A Comparative Review of Legislation // International Digest of Health Legislation. 1985. Vol. 36. No. 2.
77. Stepan, J. Traditional and Alternative Systems of Medicine: A Comparative Review of Legislation // International Digest of Health Legislation. 1985. Vol. 36. No. 2. 78. Thornton, J., Ziegler, Ch. The Russian Far East in Perspective // Russia's Far East. A Region at Risk. ed. by J. Thornton, Ch. Ziegler. Seattle and London. University of Washington Press. 2002. p. 3-35
78. Thornton, J., Ziegler, Ch. The Russian Far East in Perspective // Russia's Far East. A Region at Risk. ed. by J. Thornton, Ch. Ziegler. Seattle and London. University of Washington Press. 2002. p. 3-35 79. Wald, H and Shojania, K. Incident Reporting in Making Health Care Safer: A Critical Analysis of Patient Safety Practices, Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), 2001.
79. Wald, H and Shojania, K. Incident Reporting in Making Health Care Safer: A Critical Analysis of Patient Safety Practices, Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), 2001. 80. Zinn, C. (1995). 14,000 preventable deaths in Australian hospitals. British Medical Journal 310: 1487.
80. Zinn, C. (1995). 14,000 preventable deaths in Australian hospitals. British Medical Journal 310: 1487.
 |
Главное меню |
 |
Заглавие |
 |
Введение |
 |
Обсуждение результатов |
 |
Заключение |
 |
Список литературы |
Текстовый Файл  |
|
Телефон: (4212) 30-53-11
«Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России»