2019 год № 1
Медицинское образование
Резюме:
Ключевые слова:
Summary:
Key words:
Введение
|
 |
 |
В течении более чем четверти века в России формируются перемены в экономике и во всех областях общественной жизни. Темпы роста российской экономики, к сожалению, невелики, однако ситуация небезнадежна [3]. В подготовленном Российской академией наук докладе "Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста России" утверждается, что среднегодовые темпы роста российской экономики в ближайшие несколько лет составят 3,3%, а в 2021-2025 годах темпы роста могут увеличиться. В тоже время по данным Министерства труда и социальной защиты к 2025 году доля лиц трудоспособного возраста снизится, а число лиц старше трудоспособного возраста превысит 40 млн., что ставит под сомнение оптимистичные прогнозы роста экономики РФ, поскольку в провинции структура населения ещё хуже. Опыт модернизации экономик развитых стран (США и Евросоюз) в условиях не самой лучшей демографической ситуации можно было бы рассматривать в приложении к России, однако был реализован т.н. "разворот на восток", что стало причиной внимательного изучения успехов модернизации восточного соседа - КНР.
Пример модернизации Китая значим для России в силу целого ряда причин: однотипность моделей экономики в наших странах перед началом реформирования (плановая, на основе государственной собственности и централизованного управления); однотипность политической и социальной системы (правящая роль коммунистической партии, социальные гарантии со стороны государства и т.д.). Кроме того, сходство моделей систем образования в обеих странах (массовый характер, ориентация на всеобщую грамотность, позже - профессиональную подготовку всех членов общества, полное огосударствление системы обучения и воспитания, подготовки и распределения кадров через централизованное управление на основе 5-летнего планирования, официальной идеологии, трудового и патриотического воспитания м др.), позволяло надеяться на то, что в течение относительно короткого промежутка времени удастся изучить результаты успешной модернизации образования и науки в КНР и добиться аналогичных результатов в России [52].
Ещё в 1996 г. в Китае был подготовлен прогноз развития социально-экономического развития страны под руководством известных экономистов Юй Гуанюаня и Ли Чэнсюня. В нём рассматривались три этапа развития Китая: предполагалось, что в 1996-2010 гг. темпы прироста ВВП составят 8-9 % (в среднем 8,5 % в год). В марте 2018 г. на 3-й сессии ВСНП премьер Ли Кэцян заявил о курсе на формирование в стране концепции "Интернет плюс", которая построена на всеобъемлющем и всестороннем использовании информационных сетей для развития общества [42]. По мнению экспертов, модернизация и неуклонный рост китайской экономики обусловлен значительным ростом уровня человеческого потенциала за счет реализации коренных позитивных перемен в науке, образовании и медицине [57].
Обсуждение результатов
|
 |
 |
Что же относительно России, то в области медицины и здравоохранения эти перемены обострили традиционные проблемы и обозначили ряд новых, связанных с неуклонным развитием медицинской науки и практики. Продолжающиеся либеральные реформы отрасли и рынок медицинских услуг, породившие многообразные формы медицинской помощи различным категориям граждан обусловили нестабильность системы охраны здоровья населения и массу проблем взаимоотношений врача и пациента [20]. В ближайшие годы отечественная медицина должна преодолеть структурную неэффективность и достичь серьезных результатов в виде повышения уровня доступности и качества медицинской помощи, увеличения продолжительности жизни россиян до 78 лет, снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей); оснащения необходимым оборудованием медицинских организаций поселков городского типа и населенных пунктов с небольшим числом жителей и т.д. Это далеко не весь перечень плановых показателей, который по мнению управляющих структур государства позволит в ближайшие годы улучшить ситуацию в отечественном здравоохранении [55]. В этой связи следует отметить, что без мобилизации властвующей элиты и общества никакая модернизация охраны здоровья населения не возможна. И, если эта мобилизация не осуществится, то возникает острая необходимость переформатирования элиты, замены ее коррумпированных и неэффективных сегментов новыми здоровыми силами.
Переход здравоохранения на рыночные рельсы сформировал рост уровня социальной эксклюзии для жителей многих провинциальных, как правило, дотационных регионов России, когда качественная медицинская помощь становится для многих жителей провинций недоступной [26, 33, 65, 69]. Основная задача, которую сегодня приходится решать управляющим структурам государства - обеспечение равного доступа к качественным медицинским услугам всех без исключения слоёв населения при одновременном сдерживании затрат на их производство [28, 74].
В тисках регионального неравенства.
Сложность современной либеральной модели трансформации России связаны с формированием регионального неравенства, на что указывается в Докладе Всемирного банка "На пути к новому общественному договору", где эксперты констатируют, что "Россия вошла в тройку лидеров по неравенству регионов внутри страны среди государств Европы и Центральной Азии. Сегодняшнее неравенство россиян сконцентрировано на уровне радикального отличия богатых регионов (Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и др.) и бедных субъектов РФ Дальневосточного федерального округа (ДФО) (ЕАО, Амурская, Магаданская обл., Хабаровский, Приморский и Камчатский края). Так в Москве сконцентрирован 21% суммарного валового регионального продукта, в Петербурге - 5%, в Тюменской области - 9%, экономический вес ДФО - менее 6%, а всех республик Северного Кавказа - менее 2%. Между тем, ДФО стал средоточием социально-экономических проблем, что спровоцировало "бегство" 2 млн. дальневосточников в относительно благополучные территории государства, на фоне увеличения числа бедных в структуре населения, снижения качества образования и здравоохранения.
Большинство субъектов РФ ДФО уже многие годы зависят от федеральных бюджетных трансфертов, что только усугубляет неэффективность реализации программ развития ДФО (ТОСЭР, Дальневосточный гектар и др.). Либеральные социально-экономические реформы в современной России отразились не только на экономике, но самое главное, - на людях [23,35]. Многие отрасли региональных хозяйств ДФО прекратили свое существование (прибрежное рыболовство, производство собственной сельскохозяйственной продукции, судоремонт и судостроение, практически вся перерабатывающая промышленность и высокотехнологичное производство). В результате значительная часть высокопрофессионально подготовленных рабочих, инженерно-технических работников, ученых, преподавателей вузов оказались невостребованными на региональных рынках труда, а отдельные профессиональные группы просто исчезли, а уровень человеческого потенциала региона продолжает снижаться. Образование и здравоохранение, - одни из основных факторов накопления человеческого капитала - становятся более дорогостоящими и обеспечивать равный доступ к ним становится все труднее. У молодежи региона значительно снизился уровень мотиваций к самореализации (рис.1).
Самое тяжелое последствие ухудшения качества человеческого капитала и нарастания периферийности - усиление "пассивности и равнодушия" и нарастание "дефицита предприимчивых людей", которые могли бы (и хотели бы) реализовать те возможности, какие открывает близость Китая, Южной Кореи и Японии. Население ДФО оказывается в "замкнутом кольце" - рост качества человеческого капитала остро необходим, но этому препятствуют бедность и катастрофический дефицит ресурсов у населения для инвестирования "в себя".
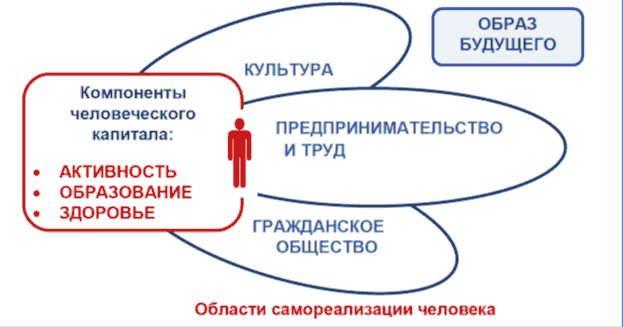
Рис. 1. Возможности самореализации молодежи Дальнего Востока России (http://lib.ieie.su/docs/2017/Vostok_Rossii/Vostok_Rossii_problemy_osvoenija.pdf)
Молодежь активно покидает малую родину в поисках лучшей доли в других регионах страны или в приграничных государствах [29]. Между тем, для социально-экономического развития Дальнего Востока России крайне важна экономическая, предпринимательская и социальная активность населения - она и представляет собою собственно "капитализацию" человека, превращение потенциала в капитал [19, 73].
Распределительные механизмы для опережающего развития провинций имеют свои пределы из-за роста регионального неравенства, что порождает специфические проблемы [4, 5]. Следовательно, если не будут созданы условия для обеспечения достаточного уровня мобильности и гибкости на рынках труда ДФО, то возможности, возникающие благодаря развитию прорывных технологий, станут призрачными, а многие группы населения региона останутся невостребованными, что увеличит рост напряжения и конфликтогенности, обусловленные диспропорцией доходов [13, 14, 25, 29]. Причем, проблемы формирования человеческого потенциала ДФО с позиции сохранения и роста уровня здоровья населения усугубляются тем что в отечественной медицине, по мнению экспертов, сформировался низкой уровень эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов. Трехуровневое администрирование отрасли, наличие двух крупных государственных страховщиков и многочисленные частные страховые медицинские организации (СМО), искаженная статистическая отчетность - только усиливают низкий уровень эффективности управления отраслью [26,28,33].
Будущее Дальнего Востока России тесно связано с уровнем здравоохранения.
Фактически, сегодня на самом высшем уровне исполнительных органов власти сложилось понимание, что в системах здравоохранения, медицинского и социального страхования назрел целый ряд проблем, как в правовой, так и экономической плоскости и отсутствие взвешенных решений по ним в перспективе ограничит выполнение РФ функций социального государства [30, 40]. В тоже время, в условиях рыночной трансформации государства каждый гражданин в рамках сохранившихся государственных гарантий, провоцирует расширение объема медицинских вмешательств, которые зачастую приносят не только пользу, но и вред здоровью, причем большинство врачей не всегда способны объяснить больным, что, если количество и объем медицинских вмешательств (даже из самых добрых побуждений) будет увеличиваться, то параллельно будет увеличиваться и число ятрогений - заболеваний и патологических синдромов возникших в результате медицинских вмешательств [18]. Ятрогении сопровождаются утратой здоровья (из-за болезней, калечащих операций и др.), снижением уровня коммуникаций с друзьями и близкими (длительное расставание на время лечения), утратой способности к повседневной деятельности (работе, любимым занятиям, самообслуживанию и др.) и, наконец, финансовыми потерями (неизбежный рост расходов на лечение, потеря работы, затраты на уход и др.) [60].
В условиях изменившихся общественных отношений в рамках "производства и продажи медицинских услуг", когда врач невольно становится "производителем", а пациент "клиентом-потребителем" медицинских услуг, являются источником социального конфликта. Причем всё чаще и чаще общество выступает с позиций обвинения производителя (врача) в том, что он не полностью выполнил свои служебные обязанности или уровень его профессиональных компетенций недостаточен для исполнения служебных обязанностей на конкретном рабочем месте, что сопровождается требованием компенсации нанесенного вреда здоровью пациента.
Порядок возмещения причинённого вреда регулируется главой 59 ГК РФ. Вред, причинённый медицинским работником при исполнении им своих профессиональных обязанностей, возмещается лечебным учреждением, в котором он работает (N 323-ФЗ п. 9 ч. 5 ст. 19; Письмо Федерального фонда ОМС от 5 мая 2012 г. N 3220/30-3/и). Общими основаниями для возмещения вреда являются: противоправность действий (бездействия) причинителя вреда; причинная связь между действиями (бездействием) медицинского работника и наступившим вредом; а также вина причинителя вреда. Чаще всего вина выражается в форме неосторожности, т.е. легкомысленного или небрежного отношения медицинских работников к своим профессиональным обязанностям [46]. Реже вина медицинских работников сопряжена с профессиональным невежеством, что напрямую связано с уровнем развития медицинской науки, образования и реализацией современной системы аккредитации высшей медицинской школы [39, 49].
Подготовка профессионалов в любой отрасли человеческой деятельности формируется в рамках системы структурированных единым замыслом знаний о характере движущих сил и главных детерминант профессионализма [27]. Их можно представить в виде объективных, связанные с реальной системой профессиональной деятельности и субъективных, таких как мотивы, интересы и компетентность [58]. В последние десятилетия в связи с бурным развитием медицинской науки и практики, при переходе с доминирования стандартизованной к персонализированной медицины в производство медицинских услуг было внедрено огромное количество инновационных методов диагностики, лечения, компьютерной обработки данных и т.д. [17, 43, 44, 45, 51, 59]. Очевидна высокая ценность использования самой современной и высокоточной медицинской техники для помощи врачу в диагностике и наблюдении за больным, изменениями в ходе течения того или иного заболевания [41,70]. К сожалению, уровень внедрения инновационных технологий в отечественную медицину пока ещё недостаточен. Так, по мнению заместителя директора по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ М.А. Плисса, низкий уровень внедрения инноваций зависит от дефицита профессионально подготовленных кадров в сфере маркетинговых и консалтинговых услуг в медицине; отсутствия у коллективов ученых навыков, опыта и финансовых средств для подготовки научно-технической документации для клинической апробации, получения разрешительных документов на инновационные разработки и реализацию стартапов [31].
Однако современные и высокоточные исследования ни в коем случае не должны способствовать разрыву союза врача и пациента. К сожалению, приходится постоянно наблюдать, когда на клиническом обходе лечащий врач, ограничившись стандартным, весьма скоротечным осмотром больного, погружается в изучение многочисленных анализов, данных инструментальной диагностики, заключений узких специалистов и т.п. Как правило, врач не обращает внимания на выражение лица пациента, манеру держаться, говорить и реагировать на ситуацию, и уж, тем более, выслушать его, зачастую "довольно пространные суждения" о своем самочувствии. Приведенный вариант взаимоотношений является одним из многочисленных фактов дегуманизации отечественной медицины как побочного эффекта индустриализации производства и последующей продажи медицинских услуг. Это всего-навсего та самая биомедицинская модель, в координатах которой человек - исключительно объект приложения профессионализма, научных знаний и объект специфических манипуляций лечащего врача [12].
Большинство отечественных врачей, относительно недавно закончивших обучение, практически не видят возможности увеличения времени общения с пациентами, в связи реальными условиями работы (чрезмерная загруженность, все более увеличивающийся объем учетных форм, требующих немедленного их заполнения, низкий социальный статус и т.д.). В этой связи, не вызывает удивления то, что пациенты имеют массу претензий к производителям медицинских услуг [10]. В частности, это длительные сроки ожидания приема в поликлинике, неудовлетворительная вентиляция, плохие санитарные условия в больницах, отсутствие лекарств, оборудования и перевязочных материалов, грубое отношение к больным медицинского персонала, непрофессионализм врачей и многое другое (рис. 2).

Рис. 2. Проблемы отечественной медицины по данным опроса пациентов
(ВЦИОМ. http://pltf.ru/wp-content/uploads/2017/11/vciom_pltf_na_17.11.pdf)
По мнению большинства экспертов, главной болевой точкой отечественного здравоохранения является тяжелейший кадровый кризис в виде хронической нехватки врачей и низкого уровня их профессиональная подготовки, что отрицательно влияет на уровень доступности и качества медицинской помощи. В условиях функционирования современной медицинской организации, которая производит и продает медицинские услуги, работа врача представлена в виде бесконечной череды исполнения стандартных технологий, что практически не оставляет ему времени на раздумья, оценку личности пациента, анализу его окружения в семье и на работе [63, 67, 68, 71, 72].
Рынок труда и уровень профессионализма.
В условиях либеральной трансформации отечественной медицины мы являемся свидетелями развития противостояния между разными точками зрения на профессионализм. Противостояние развертываясь на аренах публичной дискуссии как риторическая и идеологическая, имеет вместе с тем серьезные практические импликации. Практикующий врач постоянно убеждается, что в результате рыночных реформ его профессиональная деятельность становится полем борьбы, ценностных конфликтов и ценностных выборов [15, 17, 20,]. Перед обществом и конкретным потребителем медицинских услуг стоит нелегкий понятийный выбор определения того, что такое "хороший" врач и "плохой" врач. Уступая давлению либерально трансформированного государства, врач вынужден регулярно совершать действия, несовместимые с идеальным, "устаревшим" представлением о своей профессиональной роли. Причем в отдельных случаях, когда практикующие врачи вопреки этому давлению руководствуются внутренними критериями профессионализма, как правило "за свой счет", они вступают в конфликт с "новыми профессионалами", которые руководствуются уже, идеологически новыми принципами, сформированными в условиях либеральных реформ отечественной медицины и трансформации высшей медицинской школы [8, 37]. При этом рыночная система организации медицинской помощи и подготовки кадров врачей начинает превалировать, смещаясь к принципу производства медицинских и образовательных услуг отодвигая на второй план этические и деонтологические основы охраны здоровья населения [16, 17, 40].
Современные темпы развития отечественной медицины обусловливают необходимость внесения изменений в ряд процессов и структур управления медицинскими организациями. Данный этап является переходом от индустриальной (производственной) к информационной медицине, основной особенностью которой является наличие принципиально нового ресурса - современных знаний и компетенций. В условиях перехода к информационной медицине, основанной на инновационных знаниях и компетенциях, изменяется и усиливается роль образовательных учреждений и, прежде всего, медицинских факультетов и университетов, осуществляющих подготовку кадров для современной медицины в условиях рынка. При этом медицинские вузы подвержены двоякому воздействию. С одной стороны, трансформация и автоматизация современной медицины снижает востребованность в числе специалистов, ограничивающих свою деятельность производством "рутинных" медицинских услуг, а с другой стороны она стимулирует рост уровня теоретической подготовки врачей новой фармации, что требует изменения образовательного процесса в вузах [32].
Вполне естественно, что недостатки преподавания естественно-фундаментального блока дисциплин (физики, химии, биологии, генетики, информатики и др.) в медицинских вузах, носят системный характер, снижают конкурентоспособность их выпускников на рынках труда, поскольку сегодня во многих медицинских организациях при производстве медицинских услуг используется инновационные медицинские технологии и медицинское оборудование (микробиологические и биохимические анализаторы; IT - системы IHE, HL7, DICOM; АРМы по большинству специальностей; хирургические системы с 3Д визуализацией - Da Vinci и др.), принципы работы которых построены на новых знаниях, которые выпускники провинциальных вузов получают в ограниченном объеме. В связи с этим, руководителям медицинских организаций в процессе изучения кандидатов из числа выпускников медицинских вузов на вакантные должности врачей приходится сталкиваются с рядом проблем [34]. Наиболее важной, по их мнению, является проблема недостаточного уровня подготовки молодых специалистов для реализации современных стандартных технологий.
Большинство руководителей здравоохранения полагают, что именно в условиях перехода от информационно-сообщающей модели подготовки будущих врачей на систему формирования компетенций, моделирующее и формирующее его будущую профессиональную деятельность, необходимо широкое внедрение активных форм обучения, позволяющих формировать специалиста, способного быстро адаптироваться к изменяющимся производственно-экономическим условиям и направлениям трансформации современной медицины в условиях рынка. В значительной степени преодолеть эту проблему призвана реализация образовательных стандартов серии ФГОС-3, которая предусматривает смещение приоритетов в сторону формирования стандартного уровня практических навыков, направленных на реализацию ключевых (базовых, универсальных) и профессиональных компетенций [38,58,61]. Тем не менее, сегодня всё чаще приходится слышать нелестные отзывы о снижении уровня компетенций отдельных врачей и качестве подготовки медицинских работников в целом [15, 16, 40].
От стандартизации к персонализации.
Внедрение в конце ХХ века принципов доказательной медицины сформировало жесткие стандартизованные алгоритмы производства медицинских услуг [16, 45]. Это направление развития медицины включало кроме технологий, материальные объекты (медицинские изделия, инструменты, приборы, оборудование, лекарственные вещества, вакцины, пломбировочный материал и т.п.), а также медицинскую документацию и медицинскую терминологию, методы измерений, измерительную технику и многое другое [36, 59, 74]. А, внедрение геномных и постгеномных технологий в начале XXI века сформировало способность к качественному рывку в поступательном движении медицины вперед [68, 72]. Современный среднестатистический пациент все чаще настаивает на том, чтобы принятие решений, касающихся оказания ему медицинской помощи проходило с его непосредственным участием и было бы максимально индивидуализированным. Такой подход пропагандирует необходимость партнёрского отношения пациента, его семьи и производителя медицинских услуг (врача) [53], в сочетании с персонализированным подходом, что отражает концепцию развития современной медицины, как процесс стандартизации, так и процесс персонализации [51, 63].
"Дорожная карта" "Хелснет" (HealthNet) Национальной технологической инициативы, утверждённая решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, закрепляет основные направления развития отечественной медицины в виде внедрения информационных технологий, достижений медицинской генетики, биомедицины, превентивной медицины и принципов здорового долголетия [60]. Таким образом, персонализированная медицина - это прежде всего интегральная медицина, которая включает в себя пять основных направлений действий (Медицина "5П"): предиктивная (предсказательная), предупредительная (профилактическая), партисипативная (активное участие пациента), персонализированная (индивидуальная) и прецизионная (точная, измеряемая) [62]. В рамках реализации идеологии Медицины "5П" на рынке труда в области медицины, даже в условиях продолжительного времени подготовки профессиональных кадров, а также их узкой специализации в ближайшее время будут востребованы новые медицинские профессии. В частности: клинический биоинформатик, консультант-генетик, врач с хорошим знанием информационных технологий, сетевой врач - высококвалифицированный диагност, владеющий информацией и коммуникационными технологиями и способный ставить диагноз в онлайн-режиме (массовая диспансеризация, обслуживание в центрах обработка данных персональных диагностических устройств и порталов здоровья); молекулярный диетолог, эксперт персонализированной медицины, который будет проводить анализ генетической карты пациента, разрабатывать индивидуальные программы его сопровождения (диагностика, профилактика, лечение), прогноз предрасположенности к заболеваниям и подготовку персональной системы страхования; врач - специалист по реализации генотерапии (технологии редактирования генома CRISPR), врач - оператор медицинских роботов и др.
Особенности медицинской науки и образования российской провинции.
Устаревшая структура подготовки и управления медицинскими кадрами субъектов РФ ДФО, неэффективная работа кадровых служб региональных министерств тесно связаны с отсутствием научно обоснованной программы развития кадров и несоответствием системы подготовки специалистов с высшим и средним специальным медицинским образованием сегодняшним и будущим требованиям рынка труда. Реализация общегосударственных принципов планирования медицинских кадров ("дорожные карты"), которые применяются в регионе, подходят только для части южных районов Приморского и Хабаровского края. Для большинства субъектов РФ ДФО необходима разработка оригинальной модели производства медицинских услуг в территориях с плотностью населения меньше 1 человека на км2, с учетом сформировавшейся экономической депрессии, транспортной доступности низкого уровня, наличием социальной эксклюзии у значительной части дальневосточников и затяжным кадровым кризисом в социальной сфере. Использование "усредненных подходов" формирования кадрового потенциала отрасли здравоохранения без учета особенностей Дальнего Востока и требований рынка труда заранее обречено на неудачу.
В течение последних десятилетий в ДФО сформировалась устойчивая тенденция "утечки умов", которая приносит региону-донору убытки не столь очевидные, как ущерб потери более чем 2 млн. населения, стихийных бедствий или техногенных катастроф, но по размерам наносимого ущерба даже превосходящие их. Дальний Восток России сегодня становится в определенной степени кадровым донором для других субъектов РФ, притягивающих к себе интеллектуальную миграцию. Эти субъекты РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и др.) оказываются в выигрыше в противоположность отдалённым провинциям страны, теряющим специалистов. Между тем регион-донор сам или его структуры несут немалые затраты на воспитание и обучение специалистов высшей квалификации. Однако, когда большинство из них теряет перспективу профессионального роста и развития и покидают регион, то польза, которую эти специалисты могли бы принести за годы своей активной деятельности и которая, как правило значительно окупает затраты на их подготовку, - исчезает [6, 13, 24]. Например, по данным социологических опросов более 25% выпускников медицинских вузов ДФО планируют своё трудоустройство в "западных" регионах России [16, 34].
Затяжной социально-экономический кризис длящийся третье десятилетие фактически прервал академические связи внутри России и сформировал гигантский спрос на ученых и преподавателей фундаментальных дисциплин на её окраинах. Продолжающие существовать в условиях значительных нагрузок, неадекватных зарплат, слабой языковой подготовки, ограничения доступа к источникам современных знаний, кооперации с передовыми научными школами, исследователи провинциальных НИИ и преподаватели вузов, как правило, сами, не только не стремятся к развитию в условиях искусственно сформированной автономии, но и до сих пор считают свою зависимость от государства основной гарантией "высокого уровня" профессиональной стабильности и "истинности" производимого ими знания [1, 54]. Результатом стало появление бесчисленных локальных псевдонаучных школ в НИИ и вузах ДФО, поддерживавших лишь самые внешние видимые формы соответствия академическим стандартам. В тоже время такие новые направления развития научного знания, касающиеся человека, как синтетическая биология, нанонаука, бионика, нутригеномика и нутригенетика, рекомбинантная меметика, нейроэкономика, соноцитология, сеттлеретика, гелотология и др. выпали из спектра научных интересов ученых и преподавателей региональных НИИ и вузов.
На этом фоне оценка достижений провинциального образования и науки, в частности в ДФО, далеки от объективных. Они, как правило завышены, даже на фоне регулярно проводимых процедур государственной аккредитации. Оценка качества содержания обучения: качество образовательных программ, качество собственных образовательных стандартов, фондов оценочных средств, учебников и учебных пособий, программ развития вуза должна осуществляться в рамках реализации не только государственной аккредитации, но и независимой педагогической экспертизы и силами независимых общественных (академических) и научных объединений и организаций. Хотелось бы подчеркнуть, что речь идет не столько о сегодняшнем качестве образовательных услуг и НИОКР, сколько о готовности и стремлении к их улучшению в процессе общения с заказчиками и потребителями, которые финансируют вузы и НИИ [16, 21,22, 37, 38, 61].
Но что делать провинциальным вузам, которые в силу политических, экономических и демографических причин вынуждены самостоятельно решать проблемы своего дальнейшего существования и повышения качества образования? Федеральная программа развития образования отмечает, что "нуждается в существенном обновлении сеть вузов, не вошедших в число федеральных и национальных исследовательских университетов". Механизмы "обновления сети" известны: лицензирование, государственная аккредитация, надзор и контроль [49]. Однако именно эти механизмы фактически закрепляют "двойные стандарты", еще больше фиксируя водораздел между вузами, "вошедшими в число…", и всеми остальными [38]. Если с позиции независимой аккредитации внимательно присмотреться к медицинским вузам ДФО, то будет сделано "неприятное" открытие - многие из них следует отнести к явным аутсайдерам, представляющим "туземное образование и науку".
Если группу лидеров представляют медицинские вузы РФ (Москва, С-Петербург, Самара, Казань и др.), преимущества которых заложены в регулярно обновляемых основных фондах, включая собственные университетские клиники, в сочетании с высоким уровнем компетенций профессорско-преподавательского состава и инновационной направленностью управлением производства образовательных услуг, то в группу аутсайдеров входят все без исключения медицинские вузы ДФО, где процесс производства образовательных услуг осуществляется пока в условиях устаревших основных фондов вузов, отсутствия собственных университетских клиник, тяжелейшего кадрового кризиса и неэффективного управления. В тоже время международная практика аккредитации высшей медицинской школы показывает, что медицинский факультет университета или медицинский вуз может реализовать задачи по достижению заявленного уровня качества выпускников и успешно пройти процедуру аккредитации только при наличии в составе университета собственной клиники (University Hospital/Teaching Hospital).
Может показаться, что выражение "туземная наука" пропитано определенным уровнем снобизма, но если присмотреться более пристально к региональным НИИ и вузам, то становится ясным то, что это выражение совсем не лишено смысла. Почему региональные вузы и кафедры не могут конкурировать с ведущими вузами страны и что делает их туземными представительствами? [54, 56]. К сожалению, в ДФО уже в течение третьего десятилетия реализуются подходы "туземной" науки и образования. Наши наблюдения показывают, что большинству специалистов, работающих в провинциальных вузах и НИИ кажется, что они заняты полезным делом и не видят больших отличий результатов своей деятельности (образовательных услуг и НИОКР) от того, что происходит в образовании и науке многих экономически развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китае, США, Японии, Южной Корее, Сигапуре и др.). Аналогичная позиция региональной научной элиты сохраняется относительно соотношения достижений провинциальных и столичных организаций. Иллюзии наличия "современных достижений" регионального образования и науки культивируются в СМИ ДФО, а также в псевдонаучных публикациях многочисленных изданий региональных вузов и НИИ. В условиях перманентного социально-экономического кризиса становится очевидным, что недостаточные темпы развития научно-технической сферы Дальнего Востока России уже привели к снижению уровня человеческого потенциала и долгосрочному снижению конкурентоспособности субъектов РФ ДФО [21, 22, 37]. Кроме того, следует отметить, что начавшиеся около 30 лет назад реформы науки и медицинского образование на Дальнем Востоке России и Северо-Востоке Китая к концу второго десятилетия XXI века достигли противоположных результатов. В субъектах РФ ДФО наблюдаются признаки стагнации экономики, науки и образования, а в китайских провинциях Дунбэя, численность населения которого превышает население всей России) идет бурный рост количественных и, самое главное, качественных характеристик экономики, науки и образования [7, 42,52, 64].
Негативные последствия этого процесса в ДФО особенно остро проявляются при очередной попытке выхода региона из кризиса, когда в условиях планирования экономического роста сформируются более высокие требования к человеческому потенциалу для внедрения инновационных технологий и производства конкурентоспособной продукции на рынках АТР. Именно результаты прорывных НИОКР, как никакие другие будут способствовать опережающему экономическому и социальному развитию региона, а система высшей школы ДФО должна сыграть ведущую роль в переводе экономики региона на инновационный путь развития [6, 22]. Однако, для того чтобы появились результаты прорывных НИОКР, необходимо целевое системное финансирование стратегических направлений опережающего развития дальневосточной высшей школы и науки. По мнению китайских экспертов, при сравнительном анализе результатов образовательных реформ в России и Китае [50] достижения КНР в модернизации образования за последние три десятилетия не в последнюю очередь объясняются успешным применением зарубежного, и главным образом, советского опыта, с одной стороны, и внимательным и критическим отношением к современным российским действиям в сфере образования, с другой стороны [52]. Сегодня Министерство науки и высшего образования РФ оценивает эффективность деятельности научных работников и преподавателей вузов с помощью наукометрических показателей, таких, как Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), основанных на международных системах цитирования Web of Science, Scopus и др. Несмотря на все достоинства и недостатки этих индексов, в ТОП 100 российских ученых в различных отраслях науки входит всего лишь несколько дальневосточников.
На IY Восточном экономическом форуме во Владивостоке 11-13 сентября 2018 года, где обсуждались перспективы создания Научно-образовательного центра мирового уровня на острове Русский, была высказана позиция о наличии препятствий к его созданию. В частности, зам. Главы Минобрнауки проф. М.А. Боровская в кулуарах форума указала на то, что главная проблема, которая здесь ощущается, - это кадры. Имеется ограниченное количество профессоров, преподавателей и молодых исследователей, которые готовы выбрать своей сферой науку [9]. Усугубляется ситуация с кадрами в науке и образовании ДФО тем, что распределение по возрастному цензу высококвалифицированных научных кадров (докторов наук) в ДФО показывает высокую долю ученых пожилого возраста и слабые тенденции воспроизводства научных кадров [37]. В частности, ученых, возраст которых выше восьмидесяти лет 4,4 %, а молодых ученых до сорока лет - только 4,2 %. Молодых докторов наук до 30-ти лет на Дальнем Востоке нет вообще [21].
Духовность отечественного образования сегодня стремительно вытесняется меркантильностью, корыстолюбием, гипертрофированным эгоизмом. По мнению проф. И.М. Ревича (Израиль) проблема утраты духовности есть закономерное следствие того, что в структуру высшего образования региона пришли люди с низким уровнем социальной ответственности [47]. Причем современная российская бюрократия смотрит на учителя, врача и ученого через призму казарменного коммунизма: мол, даже получая свою невысокую зарплату, "бюджетники" все равно обязаны добросовестно трудиться, на благо родины, как правило независимо от того, сколько им за это заплатят [2, 21, 48].
Очевидно, что постепенное внедрение высоких технологий в провинциальной медицине ставит перед системой медицинского образования ДФО задачи по разработке новых подходов к подготовке молодых специалистов. Традиционное обучение у постели больного в медицинских вузах Улан-Удэ, Читы, Благовещенска, Якутска, Хабаровска и Владивостока, как правило не имеющих собственных клиник, сегодня должно быть дополнено симуляционными технологиями обучения будущих врачей, что позволит повысить уровень компетенций выпускников и с максимальной долей объективности оценить освоение ими практических манипуляций и навыков. К сожалению "парк" симуляторов в медицинских вузах ДФО пока явно недостаточен для обеспечения требуемых рынком объема знаний, умений и компетенций, начиная от симуляционных учебных классов на различных клинических кафедрах до учебно-тренинговых центров роботизированной медицины. Ресурсная база провинциальных медицинских вузов пока не соответствует современным программам развития.
Между тем ведущие медицинские университеты России развиваются совершенно в ином формате, чем представители высшей медицинской школы в ДФО. Так, только в собственном Университетском Клиническом центре ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова насчитывается более 4000 коек, в уже в далёком 2013 г. в нём была открыта первая в России учебная виртуальная клиника "Ментор медикус" (Mentor Medicus). Сегодня инновационные образовательные технологии в программах обучения применяются как стандартные и обязательные для всех студентов вуза. Совсем недавно в составе этого университета появился Институт персонализированной медицины, а с сентября 2016 г. начала свою работу Международная школа персонализированной и трансляционной медицины. Эти проекты являются площадками для апробации и драйверов развития Университета в новой модели медицинского образования [11].
В ближайшие годы конкурентоспособность России в целом и её регионов определит способность разработать и внедрить концепцию развития человеческого капитала, которая включала бы в себя не только вопросы образования и подготовки кадров, но и вопросы стимулирования спроса на кадры категории "Знание", которая предполагает наличие специалистов, большая часть работы которых состоит из решения аналитических, творческих задач, импровизации и самостоятельного принятия решений. Чтобы конкурировать в новой экономике знаний, Россия должна резко увеличить долю высококвалифицированных людей на рынке труда не только в государстве в целом, но и в его провинциях. По мнению большинства экспертов, уже к 2025 году в РФ возникнет огромный (более 10 миллионов человек) дефицит высококвалифицированных кадров, обладающих реальными знаниями и компетенциями, умеющие их правильно применять. Речь идет об управленцах, врачах, инженерах, аналитиках и т.п. Решение проблемы "Кадры и образование" заявлены в качестве приоритетного направления Программы "Цифровая экономика в Российской Федерации" (утверждена Распоряжением Правительства от 28 июля 2017 года №1632-р). Основная её задача связана с разработкой базовых квалификаций и отдельные компетенций цифровой экономики уже к концу 2018 года. для их включения в профессиональные стандарты.
Заключение
|
 |
 |
Сохранение и увеличение интеллектуального потенциала Российской провинции, особенно сибирских и дальневосточных территорий, требует от управляющих структур государства инновационных подходов, в основе которых должны лежать реальные оценки причинно-следственных связей сформировавшихся социально-экономических проблем. Для этого требуется проведение плановых НИОКР, результаты которых станут основой для принятия управленческих решений по формированию и сохранению человеческого потенциала Сибири и Дальнего Востока. Если задача повышения уровня обеспечения квалифицированными кадрами региональных инвестиционных проектов не будет выполнена, а система связи между инвесторами и организациями профессионального образования будет нарушена, то проблемы сохранения и приумножения человеческого потенциала Российских провинций будут весьма далеки от своего разрешения. Именно сегодня необходимо опережающее движение высшего образования ДФО по направлению лучшим мировым системам.
Вхождение в международное образовательное пространство в конечном итоге ускорит модернизацию отечественного медицинского образования в соответствии с мировыми стандартами: использованию инновационных технологий обучения и развитию соответствующей научной, материально-технической базы медицинских вузов; внедрению универсальных зачётных единиц (ECTS), кредитно-модульной и балльно-рейтинговой систем и др. Это позволит осуществлять принципиально иную подготовку молодых врачей, соответствующих новой информационной эпохе. В Российской провинции необходимо создать систему выявления и развития талантов, научить молодежь мечтать, обеспечить деятельность медицинских вузов необходимыми ресурсами, а главное - дать возможность талантливым молодым учёным, врачам и организаторам реализовать свои идеи и замыслы на малой родине.
Список литературы |
 |
 1. Абалкина А. Диссертационнный изоляционизм. "Троицкий вариант - Наука" №18 (187), 8 сентября 2015 года. С. 6.
1. Абалкина А. Диссертационнный изоляционизм. "Троицкий вариант - Наука" №18 (187), 8 сентября 2015 года. С. 6. 2. Алфёров Ж.И. Власть без мозгов. М.: Алгоритм, 2012. - 224 с.
2. Алфёров Ж.И. Власть без мозгов. М.: Алгоритм, 2012. - 224 с. 3. Апокин А.Ю., Белоусов Д.Р. Сценарии развития мировой и российской экономики как основа для научно-технологического прогнозирования. Форсайт № 3 (11) 2009. С. 12-29.
3. Апокин А.Ю., Белоусов Д.Р. Сценарии развития мировой и российской экономики как основа для научно-технологического прогнозирования. Форсайт № 3 (11) 2009. С. 12-29. 4. Астоянц М.С. Социальная эксклюзия в современном российском обществе: социокультурный анализ/М.С. Астоянц. - Ростов, 2007. - с.15
4. Астоянц М.С. Социальная эксклюзия в современном российском обществе: социокультурный анализ/М.С. Астоянц. - Ростов, 2007. - с.15 5. Бабинцев В. П., Куркина М. П. Человеческий потенциал как научная категория // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2012. №8 (127).
5. Бабинцев В. П., Куркина М. П. Человеческий потенциал как научная категория // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2012. №8 (127).  6. Бобков А.В., Цветков О.Ю., Заваров К.В. Дальний Восток: научно-технический потенциал вузов и региона // Современные проблемы науки и образования. - 2009. - № 6-1.
6. Бобков А.В., Цветков О.Ю., Заваров К.В. Дальний Восток: научно-технический потенциал вузов и региона // Современные проблемы науки и образования. - 2009. - № 6-1. 7. Боревская, Н.Е. Особенности реформирования высшей школы КНР на рубеже XX-XXI вв. // Материалы III Российско-Китайской конференции "Двустороннее научно-образовательное сотрудничество вузов России и Китая". М., 2009. С. 35.
7. Боревская, Н.Е. Особенности реформирования высшей школы КНР на рубеже XX-XXI вв. // Материалы III Российско-Китайской конференции "Двустороннее научно-образовательное сотрудничество вузов России и Китая". М., 2009. С. 35. 8. Бурганова Л.А. Управление изменениями в системе высшего образования: проблемы методологии // ВЭПС. 2014. №2.
8. Бурганова Л.А. Управление изменениями в системе высшего образования: проблемы методологии // ВЭПС. 2014. №2.  9. Восточный экономический форум. Пленарная сессия "Образование в транзитном мире: новые приоритеты". 12 сентября 2018 г. Владивосток - Сбербанк. https://www.om1.ru/bank/news/releases/149886/ (дата обращения 08.01.2019)
9. Восточный экономический форум. Пленарная сессия "Образование в транзитном мире: новые приоритеты". 12 сентября 2018 г. Владивосток - Сбербанк. https://www.om1.ru/bank/news/releases/149886/ (дата обращения 08.01.2019) 10. ВЦИОМ. "Российское здравоохранение и система ОМС: проблемы и решения" ВЦИОМ, отчет "Оценка ситуации в сфере здравоохранения". Центр социального проектирования. Платформа "П". Москва 2017. http://pltf.ru/wp-content/uploads/2017/11/vciom_pltf_na_17.11.pdf
10. ВЦИОМ. "Российское здравоохранение и система ОМС: проблемы и решения" ВЦИОМ, отчет "Оценка ситуации в сфере здравоохранения". Центр социального проектирования. Платформа "П". Москва 2017. http://pltf.ru/wp-content/uploads/2017/11/vciom_pltf_na_17.11.pdf 11. Глыбочко П.В. Сеченовский Университет: современная трансформация обучения должна быть направлена в первую очередь на повышение качества подготовки выпускника. Медицинское образование и вузовская наука. 2017. №2 (10). С 6-12.
11. Глыбочко П.В. Сеченовский Университет: современная трансформация обучения должна быть направлена в первую очередь на повышение качества подготовки выпускника. Медицинское образование и вузовская наука. 2017. №2 (10). С 6-12. 12. Готлиб А.С. Нарративная медицина глазами российских врачей: попытка эмпирического анализа // Вестник СамГУ. 2010. №79.
12. Готлиб А.С. Нарративная медицина глазами российских врачей: попытка эмпирического анализа // Вестник СамГУ. 2010. №79.  13. Демиденко О. Дальневосточники: Мы покидаем тонущий корабль! 28 мая 2018, 09:48 - REGNUM. https://regnum.ru/news/2421765.html
13. Демиденко О. Дальневосточники: Мы покидаем тонущий корабль! 28 мая 2018, 09:48 - REGNUM. https://regnum.ru/news/2421765.html 14. Демьяненко А.Н. Российский Дальний Восток: становление экономического макрорегиона // Регионалистика. 2017. №5.
14. Демьяненко А.Н. Российский Дальний Восток: становление экономического макрорегиона // Регионалистика. 2017. №5.  15. Дьяченко В.Г., Дьяченко С.В. Современный мир взаимоотношений врача и пациента. Философские проблемы биологии и медицины. Сборник статей. МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Московское философское общество. Изд.: ООО "Навигатор" (Москва) 2015. С. 42-45.
15. Дьяченко В.Г., Дьяченко С.В. Современный мир взаимоотношений врача и пациента. Философские проблемы биологии и медицины. Сборник статей. МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Московское философское общество. Изд.: ООО "Навигатор" (Москва) 2015. С. 42-45. 16. Дьяченко В.Г., Дьяченко С.В. Стандартизация высшего медицинского образования, производственный контекст. Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России [электронный научный журнал] 2017; №1 (26). http://www.fesmu.ru/voz/20171/2017102.aspx
16. Дьяченко В.Г., Дьяченко С.В. Стандартизация высшего медицинского образования, производственный контекст. Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России [электронный научный журнал] 2017; №1 (26). http://www.fesmu.ru/voz/20171/2017102.aspx 17. Дьяченко С.В. Пациент, врач и рынок: /С.В. Дьяченко, В.Г. Дьяченко. - Хабаровск: Изд-во ДВГМУ. 2018. - 486 с.
17. Дьяченко С.В. Пациент, врач и рынок: /С.В. Дьяченко, В.Г. Дьяченко. - Хабаровск: Изд-во ДВГМУ. 2018. - 486 с.  18. Дьяченко С.В. Экспертиза ятрогении: монография / С. В. Дьяченко, А. И. Авдеев, В. Г. Дьяченко. - Хабаровск: Изд-во "Лидер", 2015. - 660 с.
18. Дьяченко С.В. Экспертиза ятрогении: монография / С. В. Дьяченко, А. И. Авдеев, В. Г. Дьяченко. - Хабаровск: Изд-во "Лидер", 2015. - 660 с. 19. Ефимов В.С. с соавт. Политика наращивания человеческого капитала Сибири и Дальнего востока. Восток России: проблемы освоения - преодоления пространства. Под редакцией: акад. РАН В.В. Кулешова, чл.-корр. РАН В.А. Крюкова. Издательство ИЭОПП СО РАН. 2017. С. 253-263.
19. Ефимов В.С. с соавт. Политика наращивания человеческого капитала Сибири и Дальнего востока. Восток России: проблемы освоения - преодоления пространства. Под редакцией: акад. РАН В.В. Кулешова, чл.-корр. РАН В.А. Крюкова. Издательство ИЭОПП СО РАН. 2017. С. 253-263. 20. Жарова, М.Н. Моральная ответственность в профессиональной деятельности медицинских работников / М. Н. Жарова // ГлавВрач. - 2011 - №1 - С. 73-81.
20. Жарова, М.Н. Моральная ответственность в профессиональной деятельности медицинских работников / М. Н. Жарова // ГлавВрач. - 2011 - №1 - С. 73-81. 21. Затулий А.И. Доктора наук на Дальнем Востоке: Судьба или проклятие? 28.03.2013. URL: http://hab.mk.ru/articles/2013/03/28/833190-doktora-nauk-na-dalnem-vostoke-sudba-ili-proklyatie.html (по состоянию на 10.10.2018)
21. Затулий А.И. Доктора наук на Дальнем Востоке: Судьба или проклятие? 28.03.2013. URL: http://hab.mk.ru/articles/2013/03/28/833190-doktora-nauk-na-dalnem-vostoke-sudba-ili-proklyatie.html (по состоянию на 10.10.2018) 22. Затулий А.И. Зарубежная и российская системы образования: опыт сопоставления. Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. ДВГУПС. 2014. №2 (42). С. 197-201.
22. Затулий А.И. Зарубежная и российская системы образования: опыт сопоставления. Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. ДВГУПС. 2014. №2 (42). С. 197-201. 23. Заусаев В.К., Кручак Н.А. Качество жизни на Дальнем Востоке: вектор движения. Восток России: проблемы освоения - преодоления пространства. Под редакцией: акад. РАН В.В. Кулешова, чл.-корр. РАН В.А. Крюкова. Издательство ИЭОПП СО РАН. 2017. С. 271-282.
23. Заусаев В.К., Кручак Н.А. Качество жизни на Дальнем Востоке: вектор движения. Восток России: проблемы освоения - преодоления пространства. Под редакцией: акад. РАН В.В. Кулешова, чл.-корр. РАН В.А. Крюкова. Издательство ИЭОПП СО РАН. 2017. С. 271-282. 24. Исаев А.А., Исаева Л.А., Котоманова К.А. Проблемы развития человеческого потенциала в Дальневосточном федеральном округе // КЭ. 2014. №3 (87).
24. Исаев А.А., Исаева Л.А., Котоманова К.А. Проблемы развития человеческого потенциала в Дальневосточном федеральном округе // КЭ. 2014. №3 (87).  25. Исаев М.Д. Проблемы экономического развития Дальнего Востока // Молодой ученый. - 2017. - №2. - С. 436-439.
25. Исаев М.Д. Проблемы экономического развития Дальнего Востока // Молодой ученый. - 2017. - №2. - С. 436-439.  26. Калмыков Н.Н., Рехтина Н.В. Проблемы и перспективы развития системы здравоохранения в Российской Федерации. РАНХиГС. 2015. [Электронный ресурс]. URL: www.ranepa.ru/images/docs/nayka/issledovanie-meditsina. pdf (дата обращения: 27.08.2018)
26. Калмыков Н.Н., Рехтина Н.В. Проблемы и перспективы развития системы здравоохранения в Российской Федерации. РАНХиГС. 2015. [Электронный ресурс]. URL: www.ranepa.ru/images/docs/nayka/issledovanie-meditsina. pdf (дата обращения: 27.08.2018) 27. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - М.: Изд. Центр "Академия", 2004.
27. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - М.: Изд. Центр "Академия", 2004. 28. Ковалев С.П. Финансово-экономическая модель системы здравоохранения при переходе к цифровому государству. Дисс. д.э.н., Москва. 2018. 492 с.
28. Ковалев С.П. Финансово-экономическая модель системы здравоохранения при переходе к цифровому государству. Дисс. д.э.н., Москва. 2018. 492 с. 29. Крюков В.А. Растущая периферия. Восток России: проблемы освоения - преодоления пространства. Под редакцией: акад. РАН В.В. Кулешова, чл.-корр. РАН В.А. Крюкова. Издательство ИЭОПП СО РАН. 2017. С. 253-263. С. 234- 236.
29. Крюков В.А. Растущая периферия. Восток России: проблемы освоения - преодоления пространства. Под редакцией: акад. РАН В.В. Кулешова, чл.-корр. РАН В.А. Крюкова. Издательство ИЭОПП СО РАН. 2017. С. 253-263. С. 234- 236. 30. Кузьминов Я.И. с соавт. Как увеличить человеческий капитал и его вклад в экономическое и социальное развитие [Текст]: тез. докл. / Бирюкова С. С. и др.; под ред. Я.И. Кузьминова, Л. Н. Овчаровой, Л. И. Якобсона; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. - 63 с.
30. Кузьминов Я.И. с соавт. Как увеличить человеческий капитал и его вклад в экономическое и социальное развитие [Текст]: тез. докл. / Бирюкова С. С. и др.; под ред. Я.И. Кузьминова, Л. Н. Овчаровой, Л. И. Якобсона; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. - 63 с.  31. Куликова Гюзель. Digital-здравоохранение с человеческим лицом. IT-помощь медицине/ Конференция для профессионалов в ИТ и здравоохранении/ Москва. 9 ноября. 2018 г. URL: http://itmedforum.ru/digital-zdravookhranenie-s-chelovecheski (дата обращения 30.12.2018)
31. Куликова Гюзель. Digital-здравоохранение с человеческим лицом. IT-помощь медицине/ Конференция для профессионалов в ИТ и здравоохранении/ Москва. 9 ноября. 2018 г. URL: http://itmedforum.ru/digital-zdravookhranenie-s-chelovecheski (дата обращения 30.12.2018) 32. Кухарчик Г.А., Пармон Е.В., Сироткина О.В. Мультимодальная система междисциплинарной интеграции науки в образовательный процесс в ходе базовой подготовки врачей по специальности "лечебное дело". Сборник тез. IX Общероссийской конференции с международным участием "Неделя медицинского образования - 2018", 15-17 мая 2018 года, Москва. М.: Изд. ФГАОУ ВО 1 МГМУ, 2018, С. 102.
32. Кухарчик Г.А., Пармон Е.В., Сироткина О.В. Мультимодальная система междисциплинарной интеграции науки в образовательный процесс в ходе базовой подготовки врачей по специальности "лечебное дело". Сборник тез. IX Общероссийской конференции с международным участием "Неделя медицинского образования - 2018", 15-17 мая 2018 года, Москва. М.: Изд. ФГАОУ ВО 1 МГМУ, 2018, С. 102. 33. Латухина Кира. Путин призвал создать современную систему здравоохранения. Российская газета. 21.03.2017.
33. Латухина Кира. Путин призвал создать современную систему здравоохранения. Российская газета. 21.03.2017.  34. Литвинцева С.А., Лемещенко О.А., Дьяченко В.Г. Динамика формирования профессиональных мотиваций студентов. Власть и управление на Дальнем Востоке России. 2017. № 2 (79) с. 63-68.
34. Литвинцева С.А., Лемещенко О.А., Дьяченко В.Г. Динамика формирования профессиональных мотиваций студентов. Власть и управление на Дальнем Востоке России. 2017. № 2 (79) с. 63-68. 35. Ломакина Н.В. Ключевые механизмы новой модели развития Дальнего Востока и их влияние на роль минерального сектора в экономике региона. Восток России: проблемы освоения - преодоления пространства. Под редакцией: акад. РАН В.В. Кулешова, чл.-корр. РАН В.А. Крюкова. Издательство ИЭОПП СО РАН, 2017 г. С. 150-160.
35. Ломакина Н.В. Ключевые механизмы новой модели развития Дальнего Востока и их влияние на роль минерального сектора в экономике региона. Восток России: проблемы освоения - преодоления пространства. Под редакцией: акад. РАН В.В. Кулешова, чл.-корр. РАН В.А. Крюкова. Издательство ИЭОПП СО РАН, 2017 г. С. 150-160. 36. Лукьянцева Д.В., Воробьев П.А. Стандартизация медицинских технологий: вчера, сегодня, завтра //Фармацевтическая служба. 2007. № 9. С. 50-52.
36. Лукьянцева Д.В., Воробьев П.А. Стандартизация медицинских технологий: вчера, сегодня, завтра //Фармацевтическая служба. 2007. № 9. С. 50-52. 37. Макаренко В.Г. Система высшего образования России и российского Дальнего Востока в условиях рыночных реформ. (1992-2016 гг.). Россия и АТР. 2017. №1 (95) С. 8-22.
37. Макаренко В.Г. Система высшего образования России и российского Дальнего Востока в условиях рыночных реформ. (1992-2016 гг.). Россия и АТР. 2017. №1 (95) С. 8-22.  38. Мотова Г.Н. Качество образования: механизмы "обновления". "Аккредитация в образовании" № 4 (104) 2018.
38. Мотова Г.Н. Качество образования: механизмы "обновления". "Аккредитация в образовании" № 4 (104) 2018. 39. Мотова Г.Н. Эволюция системы аккредитации в сфере высшего образования России // Высшее образование в России. 2017. №10.
39. Мотова Г.Н. Эволюция системы аккредитации в сфере высшего образования России // Высшее образование в России. 2017. №10.  40. Николаев В.Г. Реформа российского здравоохранения и ценностные конфликты профессионализма // ЖИСП. 2015. №4. С. 611-624.
40. Николаев В.Г. Реформа российского здравоохранения и ценностные конфликты профессионализма // ЖИСП. 2015. №4. С. 611-624. 41. Османов Э.М., Маньяков Р.Р., Османов Р.Э. и др. Медицина 4 "П" как основа новой системы здравоохранения // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2017. №6-2.
41. Османов Э.М., Маньяков Р.Р., Османов Р.Э. и др. Медицина 4 "П" как основа новой системы здравоохранения // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2017. №6-2.  42. Островский Андрей. КНР: есть ли предел роста? ИК №7 (63). С. 86-93.
42. Островский Андрей. КНР: есть ли предел роста? ИК №7 (63). С. 86-93. 43. Перельман М.И., Богадельникова И.В. Стандарт и персональная медицина в диагностике и лечении больных. Туберкулез и болезни легких [Текст]: научно-практический журнал. - М. 2013. N 1. С 3-9.
43. Перельман М.И., Богадельникова И.В. Стандарт и персональная медицина в диагностике и лечении больных. Туберкулез и болезни легких [Текст]: научно-практический журнал. - М. 2013. N 1. С 3-9. 44. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 апреля 2018 г. N 186 "Об утверждении Концепции предиктивной, превентивной и персонализированной медицины".
44. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 апреля 2018 г. N 186 "Об утверждении Концепции предиктивной, превентивной и персонализированной медицины".  45. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 4 июня 2001 г. N 181. О введении в действие отраслевого стандарта "Система стандартизации в здравоохранении. Основные положения".
45. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 4 июня 2001 г. N 181. О введении в действие отраслевого стандарта "Система стандартизации в здравоохранении. Основные положения".  46. Пристансков В.Д. Криминалистическая теория расследования ятрогенных преступлений, совершаемых при оказании медицинской помощи: Монография /В. Д. Пристансков. - СПб.,2007. - 357 с.
46. Пристансков В.Д. Криминалистическая теория расследования ятрогенных преступлений, совершаемых при оказании медицинской помощи: Монография /В. Д. Пристансков. - СПб.,2007. - 357 с. 47. Ревич. И.М. Жизнь и смерть предложил Я тебе... Москва. "Грифон". 2006. 240 с.
47. Ревич. И.М. Жизнь и смерть предложил Я тебе... Москва. "Грифон". 2006. 240 с. 48. Ревич. И.М. У ангелов ничего не болит. Хабаровск. ТОЗ. 04.09. 2003. С.1.
48. Ревич. И.М. У ангелов ничего не болит. Хабаровск. ТОЗ. 04.09. 2003. С.1. 49. Рзянкина М.Ф., Жмеренецкий К.В. Итоги первичной аккредитации выпускников в ФГБОУ ВО ДВГМУ по специальности "педиатрия": основные проблемы и пути решения. Сборник тез. IX Общероссийской конференции с международным участием "Неделя медицинского образования - 2018", 15-17 мая 2018 года, Москва. М.: Изд. ФГАОУ ВО 1 МГМУ, 2018, С. 84.
49. Рзянкина М.Ф., Жмеренецкий К.В. Итоги первичной аккредитации выпускников в ФГБОУ ВО ДВГМУ по специальности "педиатрия": основные проблемы и пути решения. Сборник тез. IX Общероссийской конференции с международным участием "Неделя медицинского образования - 2018", 15-17 мая 2018 года, Москва. М.: Изд. ФГАОУ ВО 1 МГМУ, 2018, С. 84. 50. Россия и Китай: образовательные реформы на рубеже XX-XXI вв. Сравнительный анализ / под ред. Н.Е. Боревской, В.П. Борисенко-
50. Россия и Китай: образовательные реформы на рубеже XX-XXI вв. Сравнительный анализ / под ред. Н.Е. Боревской, В.П. Борисенко- 51. ва, Чжу Сяомань. М., 2007. С. 53-54.
51. ва, Чжу Сяомань. М., 2007. С. 53-54. 52. Сабанов В.И., Ивашева В.В. Стандарты и стандартизация в медицинской практике: Методические рекомендации. - Волгоград: Комитет по печати и информации, 1997. -24 с.
52. Сабанов В.И., Ивашева В.В. Стандарты и стандартизация в медицинской практике: Методические рекомендации. - Волгоград: Комитет по печати и информации, 1997. -24 с. 53. Сачко Г.В. Почему сходные реформы высшего образования в России и Китае ведут к разным результатам? Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 12 (266). Политические науки. Востоковедение. Вып. 12. С. 48-55.
53. Сачко Г.В. Почему сходные реформы высшего образования в России и Китае ведут к разным результатам? Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 12 (266). Политические науки. Востоковедение. Вып. 12. С. 48-55. 54. Силуянова И.В. Опыт сравнительного анализа содержания принципа "приоритета человека" в медицине. / Сборник тезисов "Философские проблемы биологии и медицины: многообразие медицинского опыта и знания", Выпуск 10, 2016, С. 12-15.
54. Силуянова И.В. Опыт сравнительного анализа содержания принципа "приоритета человека" в медицине. / Сборник тезисов "Философские проблемы биологии и медицины: многообразие медицинского опыта и знания", Выпуск 10, 2016, С. 12-15. 55. Соколов М.М., Титаев К.Д. Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. 2013. №19.
55. Соколов М.М., Титаев К.Д. Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. 2013. №19.  56. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
56. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".  57. Форум "Провинциальная и туземная наука" // Антропологический форум. 2013. №19. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/forum-provintsialnaya-i-tuzemnaya-nauka (дата обращения: 20.07.2018).
57. Форум "Провинциальная и туземная наука" // Антропологический форум. 2013. №19. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/forum-provintsialnaya-i-tuzemnaya-nauka (дата обращения: 20.07.2018). 58. Чжаомин Чэнь. Реформирование системы образования в Китае // Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. 2010. № 1. - с. 61-69.
58. Чжаомин Чэнь. Реформирование системы образования в Китае // Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. 2010. № 1. - с. 61-69. 59. Чижкова М.Б. Мотивы выбора профессии врача и их взаимосвязь с профессионально-значимыми качествами медицинского работника у студентов-первокурсников медицинского вуза // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 2-1.
59. Чижкова М.Б. Мотивы выбора профессии врача и их взаимосвязь с профессионально-значимыми качествами медицинского работника у студентов-первокурсников медицинского вуза // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 2-1. 60. Шевчук Е. П. Стандарты медицинской помощи: история развития, понятие, виды и правовая природа // Сибирский юридический вестник. 2010. №4.
60. Шевчук Е. П. Стандарты медицинской помощи: история развития, понятие, виды и правовая природа // Сибирский юридический вестник. 2010. №4.  61. Шишкин С.В., Власов В.В., Колосницына М.В. и др. Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени. НИУ ВШЭ. Москва. 2018. 55 с.
61. Шишкин С.В., Власов В.В., Колосницына М.В. и др. Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени. НИУ ВШЭ. Москва. 2018. 55 с. 62. Шуматов В.Б., Крукович Е.В., Невзорова В.А., Трусова Л.Н. Тихоокеанский государственный медицинский университет - стратегический центр развития медицинского образования и науки на Дальнем Востоке // ТМЖ. 2013. №4 (54).
62. Шуматов В.Б., Крукович Е.В., Невзорова В.А., Трусова Л.Н. Тихоокеанский государственный медицинский университет - стратегический центр развития медицинского образования и науки на Дальнем Востоке // ТМЖ. 2013. №4 (54).  63. Щербо С. Н., Щербо Д.С. Медицина "5 П": прецизионная медицина// Медицинский алфавит. - 2015. - Т. 4. - № 18. - С. 5-10.
63. Щербо С. Н., Щербо Д.С. Медицина "5 П": прецизионная медицина// Медицинский алфавит. - 2015. - Т. 4. - № 18. - С. 5-10. 64. Щербо С.Н., Щербо Д.С. Лабораторная медицина как основа персонализированной медицины. Применение биочипов в медицине // Клиническая лабораторная диагностика. 2014. Т. 59. Вып. 5. С. 4-11.
64. Щербо С.Н., Щербо Д.С. Лабораторная медицина как основа персонализированной медицины. Применение биочипов в медицине // Клиническая лабораторная диагностика. 2014. Т. 59. Вып. 5. С. 4-11.  65. Юнцюань, Ли. Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития российско-китайских отношений / Под ред. А.В. Лукина. М.: "Весь Мир", 2013. C. 704.
65. Юнцюань, Ли. Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития российско-китайских отношений / Под ред. А.В. Лукина. М.: "Весь Мир", 2013. C. 704. 66. Andersen J., Larsen J.E. The Underclass Débat: A Spreading Disease? // Social Integration and Marginalization. Frederiksberg, 1995.
66. Andersen J., Larsen J.E. The Underclass Débat: A Spreading Disease? // Social Integration and Marginalization. Frederiksberg, 1995. 67. Bezes P., Demaziére D., Le Bianic T., Paradeise C., Normand R., Benamouzig D., Pierru F., Evetts J. New Public Management and Professionals in the Public Sector. What New Patterns beyond Oppositions? // Sociologie du travail. 2012. (54): р. 21- 52.
67. Bezes P., Demaziére D., Le Bianic T., Paradeise C., Normand R., Benamouzig D., Pierru F., Evetts J. New Public Management and Professionals in the Public Sector. What New Patterns beyond Oppositions? // Sociologie du travail. 2012. (54): р. 21- 52.  68. Chadwick R. The Ethics of Personalized Medicine: A Philosopher's Perspective. Personalized Medicine. 2014.11(1):5-6.
68. Chadwick R. The Ethics of Personalized Medicine: A Philosopher's Perspective. Personalized Medicine. 2014.11(1):5-6.  69. Chadwick, R., & O'connor, A. (2013). Epigenetics and personalized medicine: prospects and ethical issues. Personalized Medicine, 2013. 10(5), 463-471.
69. Chadwick, R., & O'connor, A. (2013). Epigenetics and personalized medicine: prospects and ethical issues. Personalized Medicine, 2013. 10(5), 463-471.  70. Haan A. de. Social Exclusion: An Alternative Concept for the Study of Deprivation? // IDS Bulletin. 1998 Vol. 29 № I.
70. Haan A. de. Social Exclusion: An Alternative Concept for the Study of Deprivation? // IDS Bulletin. 1998 Vol. 29 № I. 71. Hahn, R.A., Kleinman, А. (1983) Biomedical Practice and Anthropological Theory: Frameworks and Directions, Annual Review of Anthropology, Vol. 12, p. 305-333.
71. Hahn, R.A., Kleinman, А. (1983) Biomedical Practice and Anthropological Theory: Frameworks and Directions, Annual Review of Anthropology, Vol. 12, p. 305-333. 72. Hood L. & Galas D. (2008). P4 Medicine: Personalized, Predictive, Preventive, Participatory: A Change of View that Changes Everything: A white paper prepared for the Computing Community Consortium committee of the Computing Research Association. URL:http://cra.org/ccc/resources/ccc-led-whitepapers/
72. Hood L. & Galas D. (2008). P4 Medicine: Personalized, Predictive, Preventive, Participatory: A Change of View that Changes Everything: A white paper prepared for the Computing Community Consortium committee of the Computing Research Association. URL:http://cra.org/ccc/resources/ccc-led-whitepapers/ 73. MacRae C.A., Vasan R.S. The Future of Genetics and Genomics. Closing the Phenotype Gap in Precision Medicine. Circulation 2016; 133: 2634
73. MacRae C.A., Vasan R.S. The Future of Genetics and Genomics. Closing the Phenotype Gap in Precision Medicine. Circulation 2016; 133: 2634 74. Rutkowski, M. 2016. Combating Poverty and Building Resilience through Social Protection. Voices: Perspectives on Development, 21 September. World Bank, Washington, DC.
74. Rutkowski, M. 2016. Combating Poverty and Building Resilience through Social Protection. Voices: Perspectives on Development, 21 September. World Bank, Washington, DC.  75. Tanner, Michael. The Grass is Not Always Greener: A Look at National Health Care Systems around the World (March 18, 2008). Cato Policy Analysis Paper No. 613.
75. Tanner, Michael. The Grass is Not Always Greener: A Look at National Health Care Systems around the World (March 18, 2008). Cato Policy Analysis Paper No. 613.
 |
Главное меню |
 |
Заглавие |
 |
Введение |
 |
Обсуждение результатов |
 |
Заключение |
 |
Список литературы |
Текстовый Файл  |
|
Телефон: (4212) 30-53-11
«Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России»