2022 год № 2
Обзоры литературы
Резюме:
Ключевые слова:
Summary:
Key words:
Введение
|
 |
 |
Здоровье общества - это безусловная ценность, основа национального богатства, важнейший капитал России. Гармоничное развитие личности невозможно без достаточного уровня здоровья, причем его следует понимать не как отсутствие болезней и физических дефектов, а как состояние полного физического, психического и социального благополучия. В многочисленных докладах ВОЗ о состоянии здоровья населения мира большое внимание уделяется различиям в показателях здоровья (физическое развитие, заболеваемость, инвалидность и смертность), которые в немалой степени обусловлены социально-экономическим состоянием граждан тех или иных государств, неравенством доходов отдельных групп населения, доступностью образования и здравоохранения, образом жизни и др. [20, 21].
Различия в состоянии здоровья населения разных социально-экономических групп в развитых странах Евросоюза значительно ниже, чем в развивающихся странах Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, а продолжительность жизни и смертность в бедных и социально незащищенных слоях населения экономически отсталых стран гораздо выше, чем среди аналогичных групп населения богатых стран, таких как США, ФРГ, Франция, Италия и другие страны Евросоюза [42]. По мнению Тома Розенталя (USA, David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles), провести корректный анализ взаимосвязи показателей смертности в разных географических районах с разным уровнем социально-экономического развития не представляется возможным без полноценных персонифицированных данных, оценки численности и процентного соотношения популяционных групп населения с разным уровнем дохода, образования, социального статуса [39]. Сегодня США занимают 33-е место в мире по продолжительности жизни. Согласно последним статистическим исследованиям, проведённым в 2018 году, средняя продолжительность жизни в США составляет 78,7 лет (81,1 год - для женщин и 76,1 лет - для мужчин), что ниже средних показателей по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Во всех этих странах население живет дольше, чем в США. При этом в США белые живут в примерно на 4 года дольше чернокожих, а женщины дольше мужчин на 5 лет. Что же относительно лидера, по продолжительности жизни населения стран ОЭСР, то им является Япония (Рис. 1).
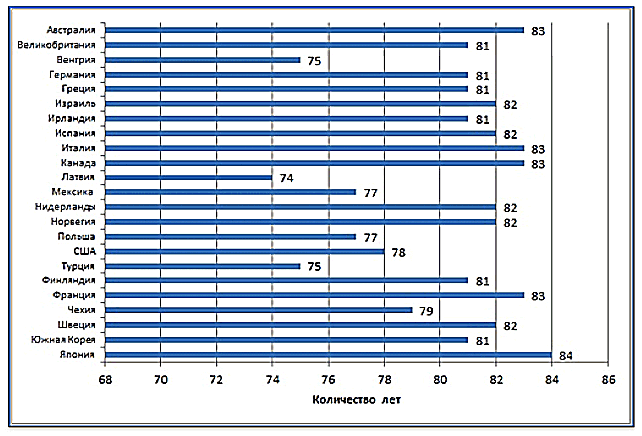
Рис. 1. Средняя продолжительность жизни в отдельных странах мира в 2018 году (https://usamagazine.ru/srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-v-ssha/)
В публикуемом ежегодно Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) Индексе глобального гендерного неравенства (ИГГН, Global Gender Gap Index) в 2019 году дана оценка рейтинга 153 стран по 14 показателям в четырех категориях: 1 - участие и возможности в экономической сфере; 2 - участие и возможности в политических структурах; 3 - уровень образования; 4 - здоровье и продолжительность жизни. Россия заняла в нем общее 81-е место. В документе ВЭФ констатируется ухудшение положения женщин в России по общему индексу за счет низкого их представительства в политической и экономической категориях. Это, отмечается в документе, вызывает удивление отечественных экспертов, поскольку Россия занимает высокие гендерные позиции в категориях "образование" и "здравоохранение". Японские эксперты отмечают подобный же парадокс в своей стране, констатируя, что, "несмотря на все усилия руководства для ликвидации гендерного неравенства, страна все еще занимает низкое 101-е место в общем рейтинге ИГГН". Кроме того, эти процессы происходят на фоне снижения общего уровня рождаемости и изменения структуры семьи.
Обсуждение
|
 |
 |
Проблема смертности населения трудоспособных возрастов.
По мере развертывания процесса либеральной трансформации России, на фоне разрушения её экономики, сформировались тяжелейшие демографические проблемы. Уже в начале второго десятилетия XXI века для того, чтобы переломить сформировавшиеся неблагоприятные тенденции демографии, перед которыми оказалось общество и государство потребовались экстренные меры по восстановлению трудового потенциала РФ. Промежуточный анализ итогов предпринимаемых экстренных мер показывает, что, несмотря на отдельные позитивные тренды в формировании трудового потенциала, коренного перелома в восстановлении позитивной демографии достичь не удалось, а новые вызовы, связанные с объемом карантинных мероприятий пандемии "КОВИД-19" до сих пор в полной мере не осознаны управляющими структурами. В этой связи следует отметить, что в случае выполнения национальных проектов, направленных на развитие человеческого капитала, российская социально-демографическая политика будет способствовать росту экономики, однако это в значительной мере зависит от уровня здоровья и качества жизни граждан трудоспособных возрастов.
Население трудоспособных возрастов - это совокупность лиц, преимущественно в трудоспособном возрасте (16-54 для женщин, 16-59 для мужчин), способных по своим психофизиологическим данным к участию в трудовом процессе, что позволяет значительную часть из них отнести к экономически активному населению - это все занятое население, безработные и женщины, находящиеся в отпусках по беременности, родам и по уходу за ребенком [6]. К экономически неактивному населению в трудоспособном возрасте относятся студенты и учащиеся, лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными родственниками, и другие лица, не занятые экономической деятельностью, а также военнослужащие.
Как один из факторов характеризующий здоровье трудоспособного населения важное значение приобретает уровень смертности этой группы россиян, поскольку именно она определяет перспективы восстановления отечественной экономики после её рецессии, связанной с мировым экономическим кризисом и последствиями противоэпидемических мероприятий пандемии "КОВИД-19" [12]. К сожалению, попытки решить проблемы семей с детьми в условиях социально-экономического кризиса, где концентрируется значительная часть трудоспособных граждан является достаточно сложной задачей, особенно в случаях преждевременной их смерти. И, если позитивных тенденций по снижение младенческой смертности в России удалось добиться к 2020 году, то по снижению показателей смертности трудоспособных групп населения таких достижений пока не наблюдается.
Успехи в сокращении преждевременной смертности от хронических неинфекционных заболеваний достигнуты только за счет болезней системы кровообращения. Меры по оздоровлению образа жизни пока дали лишь незначительный эффект в сокращении потребления алкоголя и табакокурения, а, потому, не сказываются на динамике преждевременной смертности. В отличии от РФ, для большинства стран Евросоюза характерно непрерывное ежегодное снижение смертности во всех возрастах, что и приносит год от года новый прирост продолжительности жизни. В РФ же на протяжении последних 20 лет у мужчин в возрасте от 25 до 75, а у женщин в возрасте от 20 до 65 лет возрастные коэффициенты смертности не только не снижались, но во многих случаях росли, иногда на полтора-два, а иногда и на три процента ежегодно.
Для оценки и сравнения показателей преждевременной смертности и факторов риска в России и стран ОЭСР, как правило используются данные Европейской детализированной базы данных о смертности. Европейской базы данных "Здоровье для всех" [11], итоги комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в различные годы и прогнозные расчеты Глобальной обсерватории здоровья. Обеспечение сопоставимости динамики смертности в России и других странах мира следует с позиции системы единых оценочных критериев показателей преждевременной смертности (в возрасте до 65 лет) и факторов риска.
Динамика смертности населения трудоспособных возрастов в течении почти четырех десятилетий в РСФСР и РФ показывает её связь с уровнем социально-экономической нестабильности общества и уровнем развития экономики государства и его регионов (Рис. 2).
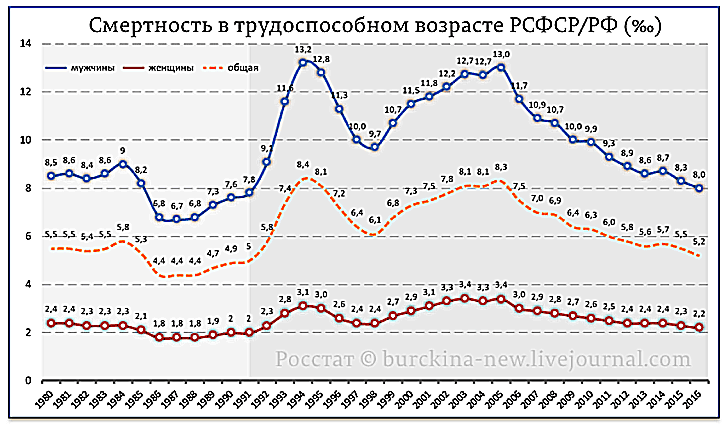
Рис. 2. Динамика показателей смертности населения в трудоспособном возрасте в РСФСР и РФ с 1980 по 2016 гг. на 1000 лиц трудоспособных возрастов
(https://ic.pics.livejournal.com/burckina_new/77812/113822/113822_original.png)
Причем, если рост этого показателя смертности в 1990-х годах можно объяснить распадом СССР и губительными для России либеральными социально-экономическими реформами [4,40], то следующая волна роста в 2004-2006 г. четкого объяснения не имеет, хотя и сохраняет свою остроту, несмотря на отчетливую тенденцию к снижению показателя, сложившуюся в 2008-2018 годах [2]. Самое высокое значение коэффициента смертности в трудоспособном возрасте - 8,3 умерших в трудоспособном возрасте на 1000 человек трудоспособного возраста - зафиксировано в 2005 году. В 2003-2004 годах, а также в 1995 году значение коэффициента было немного меньше - 8,1 на 1000 человек. В эти годы доля людей трудоспособного возраста среди всех умерших превышала 30%, а в 2005 году она превысила 32%. В 2013 году смертность населения трудоспособного возраста снизилась до 5,6‰, в 2014 году немного повысилась - до 5,7‰, а затем продолжила снижаться, опустившись до 4,8‰ в 2017 и 2018 годах, сохраняя гендерную разницу [3].
Таким образом смертность в трудоспособном возрасте в РФ существенно выше у мужчин, чем у женщин. Определенную роль играет более длинный возрастной интервал трудоспособности (на 5 лет больше, чем у женщин) с последующим увеличением пенсионного возраста, но более важную роль играет более высокая интенсивность смертности мужчин по сравнению со сверстницами. Причем в современной России проблема высокой смертности мужчин приобрела особую остроту [15], поскольку в середине первого десятилетия XXI века различия по полу сократились, в том числе из-за увеличения смертности женщин в трудоспособном возрасте. Начиная с 2006 года, смертность в трудоспособном возрасте сокращалась, причем у мужчин быстрее, чем у женщин.
К 2020 в России значение показателей смертности в трудоспособном возрасте, как и других показателей смертности, продолжают существенно различаться по регионам страны. По данным за январь-декабрь 2019 года, коэффициент смертности в трудоспособном возрасте составлял от 237 на 100 тысяч человек в Северо-Кавказском федеральном округе, до 588 на 100 000 в Дальневосточном и 566 на 100 000 в Сибирском федеральном округе. Среди регионов-субъектов РФ его значение варьировалось от 130 в Республике Ингушетии до 800 на 100 тысяч человек в ЧАО.
Основные причины смертности населения трудоспособных возрастов.
Тенденции смертности населения в РФ имеют ряд особенностей, таких как значительно более высокая мужская смертность, особенно в трудоспособном возрасте, значительная часть смертности от внешних факторов, в частности от самоубийств, отравлений и несчастных случаев [12, 16, 32]. Многочисленные гипотезы роста смертности трудоспособного населения в период рыночных реформ на рубеже XX-XXI века в России следует обобщить с трех позиций.
Первая, начиная с 1991 года, рост смертности трудоспособных граждан является реализацией смертей людей, не осуществившихся в период антиалкогольной кампании 1980-х годов. Вторая - концепция социального стресса, связанного с неоправданными либеральными социально-экономическими реформами государства и общества ("шоковая терапия"). В пользу этой гипотезы говорит совпадение ускорения негативных тенденций в состоянии здоровья населения РФ с началом социально-экономических кризисных явлений в 1991-1993 гг. и дефолтом 1998 г. Третья группа, которая в качестве основного фактора роста смертности трудоспособного населения рассматривает возросшую алкоголизацию (одновременное увеличение потребления алкоголя, токсичности спиртных напитков, роста зависимой от алкоголя заболеваемости и смертности) [15, 5]. Максимальный вклад алкогольной компоненты в общую смертность, особенно мужского населения, внесли Уральский, Сибирский и, особенно, Дальневосточный федеральные округ [20, 14, 17, 9]. Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад 21 сентября 2018 года, в котором утверждается, что 5,3% смертей в мире напрямую связаны с потреблением алкоголя (причиной смерти одного человека из 20 умерших ежегодно является алкоголь) (WHO., 2018).
Смертность населения трудоспособного возраста в последнее десятилетие в России представлена следующей структурой: первое место занимают болезни системы кровообращения (БСК - Классы по МКБ-10 (I00-I99)), второе место - внешние причины смерти (Классы по МКБ-10 (V01-Y98)), третье место - новообразования (Классы по МКБ-10 (C00-D48)). С точки зрения гендерных характеристик смертности населения трудоспособного возраста имеются различия структуры.
В частности, в структуре причин смерти у мужчин в возрасте 15-59 лет в РФ, начиная с 2008 г., на первое место вышли болезни системы кровообращения, второе место заняли внешние причины смерти, которые в течение многих предыдущих лет лидировали. В экономически развитых странах на первом месте находились новообразования, на долю которых приходилось около 30% смертей. В структуре причин смерти в РФ новообразования составляли лишь 11,9% и находились на третьем месте, при этом уровень смертности у мужчин трудоспособного возраста был в 1,5 раза выше, чем в экономически развитых странах [16]. Последующие места в РФ занимали болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания, некоторые инфекционные и паразитарные заболевания.
В структуре причин смерти женского населения трудоспособного возраста (15-54 года) в России, как и у мужчин, на первом месте находились болезни системы кровообращения, на долю которых приходилась 1/4 всех смертей (25,1%); на втором месте были внешние причины (22,9%), на третьем - новообразования (22%). Эти три класса в сумме составляли 70% смертей [16]. В экономически развитых странах структура причин смерти у женщин трудоспособного возраста была иной. В частности, около 1/2 всех смертей в них пришлось на долю от новообразований, второе и третье место, соответственно, занимали болезни системы кровообращения и внешние причины смерти, но их удельный вес был меньше, чем в РФ. Последующие места в структуре причин смерти женского населения трудоспособного возраста России занимали болезни органов пищеварения, некоторые инфекционные и паразитарные заболевания и болезни органов дыхания, что было близко к распределению этих классов причин у мужского населения РФ [16]. Что же относительно четвертого-шестого мест в структуре смертности женщин трудоспособного возраста в экономически развитых странах, то они практически не имели отличий от мужского населения для этих классов причин, хотя имеется ряд замечаний по отличию методик учета показателей [12].
Более высокие показатели смертности мужчин трудоспособного возраста в России и своеобразие структуры обусловлены как биологическими, так и социальными причинами и являются результатом их комплексного воздействия. Среди факторов преждевременной смертности мужчин трудоспособного возраста в первую очередь следует выделить смертность от внешних причин, он более чем на 50% выше, чем у женщин этого возраста. Это можно объяснить гендерной сегрегацией рынка труда, когда мужчины чаще заняты более опасными и травматичными видами деятельности, к видам деятельности с преимущественно мужской занятостью (рыболовство и рыбоводство (86 % занятых - мужчины), строительство (85 %), добычу полезных ископаемых (81 %), транспорт и связь (74 %) и др. [0].
В международной практике преждевременная смертность определяется исходя из мнений экспертов, до какого возраста при сложившихся условиях и возможностей системы здравоохранения должно доживать подавляющее большинство людей. Экспертным путем для Европейского региона ВОЗ был установлен возраст в 70 лет [19]. Смерти, произошедшие до этого возраста, условно относятся к преждевременным. Такой оценочный подход для России в целом и для её провинций является некорректным, поскольку совсем недавно реальный уровень продолжительности жизни среднестатистических россиян преодолел этот порог. На оценке этого возрастного порога основан расчет показатель потерянных лет потенциальной жизни. Практика оценивания потерянных лет потенциальной жизни (potential years of life lost, PYLL) во второй половине ХХ - начале ХХІ столетия получила значительное распространение и используется во многих странах мира. Индекс потерянных лет потенциальной жизни может выступать также показателем благосостояния населения. Так, он часто используется Мировым Банком, Всемирной организацией здравоохранения как показатель, иллюстрирующий результативность социально-экономической политики отдельных стран, а его изменения свидетельствует о позитивных или негативных тенденциях смертности на определенных территориях.
У истоков роста смертности трудоспособного населения в Российской провинции.
Американский демограф Абдель Омран, изучая соотношение и взаимосвязь здоровья человека и здоровья общества, в середине 60-х годов XX века предложил теорию эпидемиологического перехода, позволяющую объяснить произошедшие в прошлом изменения здоровья населения [28]. Смертность и рождаемость - главные детерминанты эпидемиологического перехода. Согласно этой теории, данный процесс может развиваться как в восходящем, так и в нисходящем направлении. Так, улучшение качества питания, личной гигиены и жилья в XVIII и XIX веках способствовало снижению смертности от инфекционных заболеваний и увеличению продолжительности жизни. Примером опасности движения вспять является разразившийся кризис смертности в Российской Федерации и её провинциях на рубеже XX-XXI веков. Причем так называемый унифицированный показатель смертности (уровень смертности от всех причин) в России всегда был выше, чем в экономически развитых странах. Но если в 1986 г. эта разница составляла 200 смертей на 100 тыс. человек, то в 1995 г. - уже 600. В настоящее время этот разрыв сохраняется. Особенностью кризиса смертности в России явилось то, что он наиболее остро проявился среди мужчин трудоспособного возраста.
Поскольку Дальневосточный федеральный округ - это самая удаленная от столицы и исторического центра России провинция, то уже этот факт создает довольно серьезные проблемы, учитывая размеры современного государства. В советское время прилагалось немало усилий для освоения этого региона - повышения плотности населения, развития инфраструктуры (транспорта, жилищного строительства, промышленных предприятий, учреждений социальной сферы), строительства военно-морских баз, освоения ресурсов и т.д. Однако либеральные реформы, начатые управляющими элитами государства в конце ХХ века, свели все предыдущие усилия по освоению региона к нулевой отметке.
Советник отечественного либерала-реформатора А.Т. Гайдара известный американский экономист Джеффри Д. Сакс, рассказывая о своей работе в России в 1991-1994 гг., говорил о том, что его ожидания от новая команды либеральных экономистов в России не оправдались, а самое худшее, по его мнению произошло в 1995 и 1996 гг., когда он уже был сторонним наблюдателем российских реформ. "…В течение двух этих лет российская приватизация приобрела откровенно бесстыдный и криминальный характер. По сути, коррумпированная группа так называемых бизнесменов, которых впоследствии стали называть новыми российскими олигархами, сумела прибрать к своим рукам природные ресурсы страны. По самым скромным оценкам, частные лица получили нефти, газа и других ценных активов примерно на 100 миллиардов долларов". По его мнению это была не "шоковая терапия" [4], а злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей" [41]. Ему вторил, главный редактор и собственник журнала U.S. News & World Report, Мортимер Закерман (M. Zukerman): "…Небольшая группка людей, захватившая благодаря коррупции государственную собственность, бездумно щеголяет своим богатством... Они отняли у правительства даже его опору - налоговые поступления для поддержания государственных служб и инфраструктуры… из страны было вывезено таким образом свыше 300 млрд. долларов..." [22, 8].
Сегодняшняя ситуация в России представляет собой наглядный пример разворота эпидемиологического перехода в обратную сторону, что обусловлено стрессовым состоянием экономики в последние десятилетия, нездоровым образом и условиями жизни. Это не только препятствовало улучшению состояния здоровья населения, но и привело к сокращению ожидаемой продолжительности жизни, особенно у мужчин трудоспособного возраста. Такая ситуация определяет новую траекторию эпидемиологического перехода, отклоняющуюся от пути, пройденного рядом западных стран, для которых характерны снижение показателей распространенности возрастных неинфекционных заболеваний (НИЗ) и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.
Либеральные реформы современного государства и общества в России привели к значительному расслоению граждан по уровню доходов. Особенно остро проблема обнищания населения и экономического расслоения общества сформировалась в отдаленных провинциях России с низкой плотностью населения, таких, как Сибирь и Дальний Восток, имевших огромные запасы минералов, углеводородного сырья, леса, пресной воды и т.п., но где инвестиции в человеческий потенциал были всегда ограничены, а в условиях либеральных реформ конца ХХ века эти ограничения перешли в категорию социальной эксклюзии [17, 9, 18, 7].
А между тем, Дальний Восток России выполняет стратегическую связующую функцию в международных отношениях России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Наличие огромных запасов природных ресурсов, которые способны стать базой для реализации высокорентабельных проектов и для развёртывания новых масштабных производств. На Дальнем Востоке сосредоточен 81% запасов алмазов, 51% леса, 37% пресной воды, 33% водных биоресурсов и 32% золота, 27% газа и 17% нефти от запасов всего АТР, расположен ряд крупнейших месторождений угля, урана, олова, полиметаллов мирового значения. Управляющие структуры государства планируют до 2030 г. ускорить экономический рост ДФО, реализовать программы по развитию человеческого капитала и кадрового потенциала, сформировать комфортную среду для жизни населения, ускорить технологическое развитие промышленности и т. п..
Дальневосточный регион является типичной провинцией современного государства (рис. 3), на примере которой можно рассматривать итоги либеральных реформ - от "бегства" двух миллионов жителей ДФО в благополучные Москву и Санкт-Петербург, а также центральные регионы РФ, до значительного снижения качества человеческого потенциала на местах. Анализ современного демографического развития Дальнего Востока России показывает характер изменения численности населения в регионе (без учёта вошедших в 2018 г. в состав ДФО Республики Бурятия и Забайкальского края). По прогнозу до 2050 г численность населения ДФО достигнет 4,0 млн. человек. На 01.01.2018 г. на Дальнем Востоке проживало 6 165284 человек. За период 1991 - 2017 гг. регион потерял 1898,3 тыс. чел. - 23,5%.
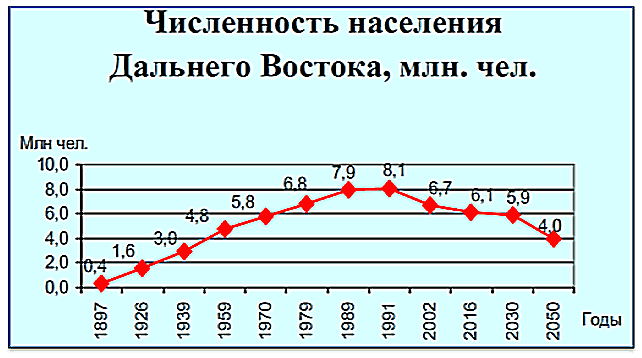
Рис. 3. Динамика численности населения Дальнего Востока России 1897-2016 гг. и прогноз до 2050 г. (Е.Л. Мотрич, д.э.н., ИЭИ ДВО РАН, г. Хабаровск).
Одномоментная потеря дальневосточниками в результате рыночных реформ десятилетиями создававшейся и ставшей неотъемлемой частью образа жизни системы льгот и привилегий, ощущения социальной элитарности, своей особой значимости для страны, привела к острому психологическому шоку. Этот шок усугубился резким ростом стоимости жизни и снижением реальных доходов семей, имеющих детей, а также снижением доступности транспорта, качественного жилья, здравоохранения, образования и т.п.. В структуре населения ДФО в таких условиях наблюдается рост социального неравенства в виде ограничения услуг систем образования и здравоохранения [9]. Отрицательная динамика состояния здоровья дальневосточников, снижение качества жизни трудоспособного населения, стало препятствием для опережающего социально-экономического развития ДФО.
По мнению отечественных экономистов, для возрождения ДФО, наряду с введением преференций для потенциальных инвесторов, необходимо формирование социально-экономических преимуществ для проживающего здесь населения, т. е. создание повышенных стандартов качества жизни. Сдерживающим для Дальнего Востока фактором сохранения местного населения и закрепления мигрантов является отсутствие отвечающей современным требованиям социальной инфраструктуры, высокой транспортной мобильности, расширенной доступности к социальным благам и услугам, а также достойный уровень оплаты труда. Положение усугубляется тем, что в регионе сформировались все признаки депопуляции населения, то есть фактическое его вымирание и резкое снижение уровня здоровья трудоспособного населения [9, 10].
В настоящее время в рамках роста уровня демографических проблем провинций России обсуждаются вопросы влияния климатических изменений на показатели здоровья населения регионов России расположенных в Сибири, Приполярных зонах и в ДФО: заболеваемость, общую смертность, смертность трудоспособного населения и ожидаемую продолжительность предстоящей жизни [33, 34]. Комплексное и кумулирующее воздействие природно-климатических, социально-экономических и экологических факторов, характерных для многих провинций России, привело к устойчиво высокому уровню внешних причин смертности, особенно за счет самоубийств, алкогольных отравлений, отморожений, производственных травм и дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В формировании насильственной смертности системообразующая роль принадлежит эволюции травматогенеза посредством особенностей травмагенного поведения по данной причине в различных субпопуляционных группах (демографических, социально-профессиональных и т. д.). На протяжении 2000-х гг. в России ежегодно погибало от внешних причин от 630 до 740 тыс. человек рабочих возрастов, из них около 80 % - мужчины. Причем средний возраст смерти от внешних причин у мужчин трудоспособного возраста составлял 39,9 года.
Травматизм и насильственная смертность являются социально-гигиенической проблемой мирового масштаба. По данным ВОЗ во всем мире ежегодно умирают более пяти миллионов человек вследствие травм и отравлений, из которых одна четверть приходится на самоубийства и убийства. В развитых странах эта проблема остается также непреодолимой, где лидирующими причинами смертности в группе молодых лиц (15-29 лет) являются самоубийство и дорожно-транспортные происшествия. Для России травмы и отравления, наряду с депопуляционными процессами, являются универсальным предметом внимания - ежегодно регистрируются травмы у каждого 8-9-го ребенка и 11-12-го. Рост смертности от внешних причин начался в России с 1991 г. и совпал с началом либеральных социально-экономических реформ в стране. Социально-экономический кризис 2008 года спровоцировал новое повышение смертности. На Дальнем Востоке России уровень смертности вследствие внешних причин значительно превышает среднероссийские показатели. Темпы роста смертности дальневосточников в трудоспособных возрастах приводят к интенсивным потерям трудового потенциала региона. Например, в 2008 г. в ДФО от разных причин умерло в трудоспособном возрасте 25 тыс. мужчин, из них в Приморском крае - 7 тыс. А, от внешних причин в ДФО умерло 9 тыс. населения в трудоспособных возрастах, из них в Приморском крае - около 2 тыс. Уровень смертности от внешних причин в ДФО имел схожую динамику с РФ, но значительно (до 25-33 %) превышал среднероссийские показатели [15].
Низкая продолжительность жизни населения в ДФО формируется в основном за счет сверхсмертности в трудоспособном возрасте. В структуре смертности первое место среди мужчин трудоспособного возраста в течение многих лет занимают внешние причины (несчастные случаи, отравления, травмы), второе - болезни органов кровообращения и третье - злокачественные новообразования. Внешние причины смерти включают дорожно-транспортные происшествия, убийства, самоубийства, отравления и травмы. Значительная часть смертей от внешних причин обусловлена низким социально-экономическим статусом и наличием вредных привычек населения. Со злоупотреблением алкоголя связано более половины (52,6 %) всех смертей от внешних причин, в том числе 72,2 % убийств и 42,1 % самоубийств [15]. Современный демографический потенциал дальневосточной провинции России не позволяет обеспечить поступательного социально-экономического развития. Решение данной проблемы требует изменить подходы к освоению территорий ДФО, а также размещению населения и производства [33, 34, 35].
Экономические потери, связанные с преждевременной смертью трудоспособного населения ДФО.
На основе демографии и социальной медицины М.С. Бедный основал научную дисциплину - медицинскую демографию. Изучать демографические закономерности он предлагал исходя из главной качественной характеристики населения - его здоровья, которое выражается в длительной активной жизни и полноценной трудоспособности. Дополнительным направлением оценки вклада продолжительности здоровой жизни в формирование трудового потенциала является расчёт экономических потерь [30, 36]. Комплексная оценка демографических потерь, вызванных преждевременной смертностью, которая оперирует не только реальной статистикой смертей, но и определяет объемы (в годах) потенциальной жизни, недожитой из-за наступления такой смерти является важной задачей экономики здравоохранения. Подобная оценка возможна как для страны в целом, так и для отдельных регионов или населенных пунктов, для городского и сельского населения, в зависимости от конкретных причин. Соответственно, это убедительно иллюстрирует возможную выгоду от вмешательства, результатом которых будет сокращение уровня преждевременной смертности (вообще или от определенных причин).
В настоящее время, в период мирового финансового кризиса, экономических реформ и жесткой экономии средств, поступающих для нужд здравоохранения, абсолютно необходимо выделять приоритетные направ-ления деятельности системы охраны здоровья населения региона. Наиболее целесообразно определять эти направления с учетом экономических потерь, связанных с различными причинами преждевременной смертности трудоспособного населения [1, 26, 23, 27, 24, 25]. Особую значимость эти вопросы приобретают в регионах с высокой техногенной нагрузкой среды обитания, где устойчивое развитие является залогом сохранения уровня здоровья трудоспособного населения. Выявление приоритетных гигиенических проблем, оценка воздействия конкретных неблагоприятных факторов на формирование преждевременной смертности трудоспособного населения осуществляется в настоящее время в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга, который является важнейшим инструментом управляющих структур по оценке эффективности охраны здоровья населения региона [31]. К таким показателям следует отнести потерянные годы потенциальной жизни (ПГПЖ).
В настоящее время ПГПЖ широко используется в отечественных и международных исследованиях. Недостаточно изученными до сих пор остаются различия показателей ПГПЖ в Федеральных округах РФ и их взаимосвязь с социально-экономическими оценочными индексами. Показатели ПГПЖ на 100 тыс. населения (нестандартизованные и стандартизованные на мировой стандарт возрастной структуры населения) следует рассчитывать на основе данных Росстата о числе умерших и численности населения в возрастных группах регионов РФ. Минимальные показатели ПГПЖ зарегистрированы в республиках Северного Кавказа, Москве и Санкт-Петербурге; максимальные - в Чукотском автономном округе, Республике Тыва и Еврейской автономной области
Население трудоспособного возраста на протяжении многих десятилетий является ключевой группой, определяющей уровень продолжительности жизни в России, его региональное разнообразие, тенденции и прогноз, а также перспективы экономического развития не только государства в целом, но его отдельных провинций. И именно для лиц в трудоспособных возрастах наиболее остро стоит вопрос о точности установления причин смерти. Проведенные исследования свидетельствуют, что есть веские основания предполагать, что рост сердечно-сосудистой смертности, особенно в молодых возрастах, может быть поставлен под сомнение. Вместе с тем, вклад внешних причин может оказаться еще выше, а структура внешних причин еще более насильственной (ДТП, производственный травматизм, убийства, самоубийства, перепотребление алкоголя, наркомания и токсикомания), чем это следует из данных официальной статистики [13].
Дальний Восток России, включающий Хабаровский край, является травмагенной территорией, что связано со специфическими формами трудовой занятости населения: добычей природных ископаемых, лесозаготовкой, лесообработкой, рыболовством, строительством. В последние годы актуализировались вопросы анализа причинно-следственных факторов производственного травматизма, а также безопасности рабочих мест в различных отраслях промышленности. Современный период характеризуется изменениями условий труда в различных отраслях промышленности, что связано с появлением новых профессиональных рисков: интенсификация производства, снижение качества жизни, психического здоровья и безопасности работающих. Профилактика и снижение травматизма во всех возрастных группах является одной из главных задач всех социальных институтов большинства государств мира [38, 37].
Снижение человеческого потенциала в ДФО приводит не только к демографическим потерям (уменьшение численности населения), но и к экономическому ущербу (снижение выпуска продукции), имеющему большие региональные различия. Проблема определения материального ущерба тесно связана (несмотря на этические аспекты проблемы) с задачей оценки стоимости среднестатистической жизни человека. В России и за рубежом существуют методики оценки этого показателя, в которых диапазон денежной величины жизни значительно варьирует.
Заключение
|
 |
 |
Резюмируя выше сказанное, следует отметить, что большое внимание необходимо уделять вопросам трудового потенциала в ДФО. Экономическое развитее Дальневосточного Федерального округа и Хабаровского края, возможны при растущем трудовом потенциале. Трудовой потенциал следует рассматривать как часть экономического потенциала. Так, из года в год, количество трудоспособного населения сокращается, а демографическая нагрузка растет.
Согласно данным Росстата, с 2010 по 2019 гг. трудоспособное население сократилось в крае на 101,45 тыс. человек, что составляет 11,75% от трудоспособного населения 2010 г. (863,67 тыс. чел.), в среднем население сокращалось на 11,27 тыс. человек ежегодно. с 2010г. По 2016г Коэффициент демографической нагрузки увеличился в ДВ с 577 до 712. В Хабаровском каре произошло изменение за тот же период с 574 до 699. Анализируя демографические прогнозы 2019-2035 гг, средние варианты, можно сделать вывод, что эта проблема будет усугубляться. Так, население в трудоспособном возрасте, согласно прогнозу, изменится в РФ с 81384,9 по 78289,4, на ДВ с 3524,8 до 3296,7, в Хабаровском крае же с 765,2 до 729,4. Коэффициент демографической нагрузки меняется с 804 по 839 в РФ, в ДВ с 744 по 772, в ХК с 733 по 757.
В структуре смертности населения трудоспособного возраста как в РФ, так и в ДФО и ХК есть свои особенности. Если взять структуру смертности всего населения, то на первое место выходят БСК, на второе - новообразования, на третьем - внешние причины. Так среди всего населения за 2017 г. на 100000 населения умерло от БСК 587,6, новообразований - 200,6, а от внешних причин - 104,0. Что касается трудоспособного населения, то там цифры следящие: БСК - 146,1; внешние причины - 123,7; новообразования - 74,6. Внешние причины выходят на второе место в трудоспособном населении. Такая тенденция сохраняется и в ДВ и ХК, на протяжении последних лет (2010-2017гг.). Несмотря на, из года в год, постепенно снижающуюся смертность населения в трудоспособном возрасте, хочется отметить, что темпы ее снижения недостаточны для сохранения трудового потенциала региона, и остановки роста демографической нагрузки. Предотвратимые причины смертности в трудоспособном возрасте являются важнейшими медико-демографическими задачами. Для развития страны в целом и региона в частности необходимо обращать особое внимание, заниматься изучением этого вопроса и решать проблемы на опережение.
Список литературы |
 |
 1. Аксель Е.М., Двойрин В.В. Методика оценки социально-экономического ущерба, наносимого смертностью от злокачественных новообразований. - М., 1984. - 36 с.
1. Аксель Е.М., Двойрин В.В. Методика оценки социально-экономического ущерба, наносимого смертностью от злокачественных новообразований. - М., 1984. - 36 с. 2. Вишневский А.Г. Смертность в России: несостоявшаяся вторая эпидемиологическая революция // Демографическое обозрение. 2014 № 1 (4). С. 6-40.
2. Вишневский А.Г. Смертность в России: несостоявшаяся вторая эпидемиологическая революция // Демографическое обозрение. 2014 № 1 (4). С. 6-40. 3. Вишневский А.Г., Щур А.Е. Смертность и продолжительность жизни в России за полвека // ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучение. Вестник ВШОУЗ. 2019. Т. 5, № 2. С. 10-21. doi: 10.24411/2411-8621-2019-12003.
3. Вишневский А.Г., Щур А.Е. Смертность и продолжительность жизни в России за полвека // ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучение. Вестник ВШОУЗ. 2019. Т. 5, № 2. С. 10-21. doi: 10.24411/2411-8621-2019-12003.  4. Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. - М.: РОССПЭН, 2006. - 440 с.
4. Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. - М.: РОССПЭН, 2006. - 440 с. 5. Гетманов В.Н. "Российская демография 19-21-го веков, как зеркало политики". Доклад на "Годичном Собрании" НО Петровской Академии Наук и Искусств (ПАНИ), Новосибирск, 25 ноября 2007г., 21с.
5. Гетманов В.Н. "Российская демография 19-21-го веков, как зеркало политики". Доклад на "Годичном Собрании" НО Петровской Академии Наук и Искусств (ПАНИ), Новосибирск, 25 ноября 2007г., 21с. 6. Григорьев Ю.А., Баран О.И. Демографическая политика и анализ безвозвратных потерь общественного здоровья на основе концепции эпидемиологического перехода. Медицина в Кузбассе. 2017; (3) : 3-7.
6. Григорьев Ю.А., Баран О.И. Демографическая политика и анализ безвозвратных потерь общественного здоровья на основе концепции эпидемиологического перехода. Медицина в Кузбассе. 2017; (3) : 3-7. 7. Донкан И.М. Социальная эксклюзия семей, имеющих детей-инвалидов : на примере Дальнего Востока России : диссертация ... кандидата социологических наук : 22.00.04 / Донкан Ирина Михайловна; [Место защиты: Тихоокеан. гос. ун-т].- Хабаровск, 2010.- 173 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-22/181
7. Донкан И.М. Социальная эксклюзия семей, имеющих детей-инвалидов : на примере Дальнего Востока России : диссертация ... кандидата социологических наук : 22.00.04 / Донкан Ирина Михайловна; [Место защиты: Тихоокеан. гос. ун-т].- Хабаровск, 2010.- 173 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-22/181 8. Дьяченко В.Г., Дьяченко С.В. Об истоках социального неравенства при обеспечении дальневосточников медицинской помощью. Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России. [Электронный журнал] 2015. № 2. URL: http://www.fesmu.ru/voz/20152/201520.aspx
8. Дьяченко В.Г., Дьяченко С.В. Об истоках социального неравенства при обеспечении дальневосточников медицинской помощью. Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России. [Электронный журнал] 2015. № 2. URL: http://www.fesmu.ru/voz/20152/201520.aspx 9. Дьяченко В.Г., Пригорнев В.Б., Солохина Л.В. и др. Здравоохранение Дальнего Востока России в условиях рыночных реформ. Под редакцией В.Г. Дьяченко. Хабаровск. 2013. Изд. Центр ГБОУ ВПО ДВГМУ. 684 с.
9. Дьяченко В.Г., Пригорнев В.Б., Солохина Л.В. и др. Здравоохранение Дальнего Востока России в условиях рыночных реформ. Под редакцией В.Г. Дьяченко. Хабаровск. 2013. Изд. Центр ГБОУ ВПО ДВГМУ. 684 с. 10. Дьяченко С.В. Пациент, врач и рынок: /С.В. Дьяченко, В.Г. Дьяченко. - Хабаровск: Изд-во ДВГМУ. 2018. - 486 с.
10. Дьяченко С.В. Пациент, врач и рынок: /С.В. Дьяченко, В.Г. Дьяченко. - Хабаровск: Изд-во ДВГМУ. 2018. - 486 с.  11. Европейская база данных "Здоровье для всех" [Интернет]. URL: https://gateway.euro.who.int/en/visualizations/choropleth-map-charts/hfa 421-of-regular-daily-smokers-in-the-population-age-15plus/#table (Дата обращения 15.09.20)
11. Европейская база данных "Здоровье для всех" [Интернет]. URL: https://gateway.euro.who.int/en/visualizations/choropleth-map-charts/hfa 421-of-regular-daily-smokers-in-the-population-age-15plus/#table (Дата обращения 15.09.20) 12. Жилина Н.М. Состояние здоровья трудящегося населения промышленного центра Сибири в 2008-2015 гг. Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание] 2017; 56 (4): 3. URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/846/30/lang,ru/ (Дата обращения: 21.02.2020)
12. Жилина Н.М. Состояние здоровья трудящегося населения промышленного центра Сибири в 2008-2015 гг. Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание] 2017; 56 (4): 3. URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/846/30/lang,ru/ (Дата обращения: 21.02.2020) 13. Иванова А.Е., Сабгайда Т.П., Семенова В.Г. и др. Факторы искажения структуры причин смерти трудоспособного населения России // Социальные аспекты здоровья населения. 2013. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-iskazheniya-struktury-prichin-smerti-trudosposobnogo-naseleniya-rossii (дата обращения: 21.09.2020).
13. Иванова А.Е., Сабгайда Т.П., Семенова В.Г. и др. Факторы искажения структуры причин смерти трудоспособного населения России // Социальные аспекты здоровья населения. 2013. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-iskazheniya-struktury-prichin-smerti-trudosposobnogo-naseleniya-rossii (дата обращения: 21.09.2020). 14. Ижейкина Н.М. Демографические процессы в благополучных и депрессивных регионах России (сравнительный анализ). Автореф. дисс. к.э.н., Москва. Институт социально-политических исследований РАН. 2007. 29 с.
14. Ижейкина Н.М. Демографические процессы в благополучных и депрессивных регионах России (сравнительный анализ). Автореф. дисс. к.э.н., Москва. Институт социально-политических исследований РАН. 2007. 29 с.  15. Изергина Е.В., Лозовская С.А., Косолапов А.Б. Преждевременная смертность от внешних причин мужчин трудоспособного возраста в дальневосточном федеральном округе // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 3-2. - С. 339-345; URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=29605 (дата обращения: 10.11.2017).
15. Изергина Е.В., Лозовская С.А., Косолапов А.Б. Преждевременная смертность от внешних причин мужчин трудоспособного возраста в дальневосточном федеральном округе // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 3-2. - С. 339-345; URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=29605 (дата обращения: 10.11.2017). 16. Измеров Н.Ф., Тихонова Г.И., Горчакова Т.Ю. Смертность населения трудоспособного возраста в России и развитых странах Европы: тенденции последнего двадцатилетия // Вестник РАМН. 2014. №7-8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/smertnost-naseleniya-trudosposobnogo-vozrasta-v-rossii-i-razvityh-stranah-evropy-tendentsii-poslednego-dvadtsatiletiya (дата обращения: 13.09.2020).
16. Измеров Н.Ф., Тихонова Г.И., Горчакова Т.Ю. Смертность населения трудоспособного возраста в России и развитых странах Европы: тенденции последнего двадцатилетия // Вестник РАМН. 2014. №7-8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/smertnost-naseleniya-trudosposobnogo-vozrasta-v-rossii-i-razvityh-stranah-evropy-tendentsii-poslednego-dvadtsatiletiya (дата обращения: 13.09.2020). 17. Казначеев В.П. Кто отвечает за сохранение нации, ее здоровье на востоке нашей страны. Сборник докладов участников международной научно-практической конференции "Глобальные проблемы ноосферы: природа, человек, общество, культура". 26-27 сентября 2009 г. - Новосибирск: ЗСО МСА, 2009 г. - 250 с.
17. Казначеев В.П. Кто отвечает за сохранение нации, ее здоровье на востоке нашей страны. Сборник докладов участников международной научно-практической конференции "Глобальные проблемы ноосферы: природа, человек, общество, культура". 26-27 сентября 2009 г. - Новосибирск: ЗСО МСА, 2009 г. - 250 с. 18. Казначеев В.П., Поляков Я.В., Акулов А.И., Мингазов И.Ф. Проблемы "Сфинкса ХХ1 века". Выживание населения России. - Новосибирск: Наука, 2000. - 232 с.
18. Казначеев В.П., Поляков Я.В., Акулов А.И., Мингазов И.Ф. Проблемы "Сфинкса ХХ1 века". Выживание населения России. - Новосибирск: Наука, 2000. - 232 с. 19. Кайгородова Т.В., Михеев П.А. Преждевременная и предотвратимая смертность. Обзор Документационного центра ВОЗ. Информационный бюллетень для руководителей здравоохранения. Май 2006. Выпуск 18. С. 1-2.
19. Кайгородова Т.В., Михеев П.А. Преждевременная и предотвратимая смертность. Обзор Документационного центра ВОЗ. Информационный бюллетень для руководителей здравоохранения. Май 2006. Выпуск 18. С. 1-2. 20. Калабеков И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах. М.: "РУСАКИ". 2010; 498с. [Kalabekov I.G. Rossiiskie reformy v tsifrakh i faktakh. M.: "RUSAKI". 2010; 498p. http://refru.ru/ Accessed 1.03.2016. (In Russian)]
20. Калабеков И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах. М.: "РУСАКИ". 2010; 498с. [Kalabekov I.G. Rossiiskie reformy v tsifrakh i faktakh. M.: "RUSAKI". 2010; 498p. http://refru.ru/ Accessed 1.03.2016. (In Russian)] 21. Камашева А.В. Анализ показателей общественного здоровья и факторов, на него влияющих // Казанский экономический вестник. 2015. № 5 (19). С. 18.
21. Камашева А.В. Анализ показателей общественного здоровья и факторов, на него влияющих // Казанский экономический вестник. 2015. № 5 (19). С. 18. 22. Кива А. У России есть выход. http://old.russ.ru/politics/articles/99-03-30/kiva.htm (по состоянию на 26.04.2015)
22. Кива А. У России есть выход. http://old.russ.ru/politics/articles/99-03-30/kiva.htm (по состоянию на 26.04.2015) 23. Киселев С.Н. Демографические аспекты старения населения Дальневосточного федерального округа // Дальневосточный медицинский журнал. 2017. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/demograficheskie-aspekty-stareniya-naseleniya-dalnevostochnogo-federalnogo-okruga (дата обращения: 27.01.2021).
23. Киселев С.Н. Демографические аспекты старения населения Дальневосточного федерального округа // Дальневосточный медицинский журнал. 2017. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/demograficheskie-aspekty-stareniya-naseleniya-dalnevostochnogo-federalnogo-okruga (дата обращения: 27.01.2021). 24. Киселев С.Н. Динамика возрастной структуры населения Дальневосточного Федерального Округа // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2004. №2. С. 22-24.
24. Киселев С.Н. Динамика возрастной структуры населения Дальневосточного Федерального Округа // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2004. №2. С. 22-24.  25. Киселев С.Н. Медико-социальные аспекты демографических процессов в дальневосточном федеральном округе // Дальневосточный медицинский журнал. 2004. №3. С. 5-9.
25. Киселев С.Н. Медико-социальные аспекты демографических процессов в дальневосточном федеральном округе // Дальневосточный медицинский журнал. 2004. №3. С. 5-9.  26. Киселев С.Н. Некоторые особенности смертности населения Дальневосточного федерального округа // Проблемы социальной гигиены и история медицины. - 2004.- № 3. - С.20-21.
26. Киселев С.Н. Некоторые особенности смертности населения Дальневосточного федерального округа // Проблемы социальной гигиены и история медицины. - 2004.- № 3. - С.20-21. 27. Киселев С.Н. Тенденции демографической нагрузки и экономичности роста населения Дальневосточного федерального округа в начале ХХI-го века // Дальневосточный медицинский журнал. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-demograficheskoy-nagruzki-i-ekonomichnosti-rosta-naseleniya-dalnevostochnogo-federalnogo-okruga-v-nachale-hhi-go-veka (дата обращения: 27.01.2021).
27. Киселев С.Н. Тенденции демографической нагрузки и экономичности роста населения Дальневосточного федерального округа в начале ХХI-го века // Дальневосточный медицинский журнал. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-demograficheskoy-nagruzki-i-ekonomichnosti-rosta-naseleniya-dalnevostochnogo-federalnogo-okruga-v-nachale-hhi-go-veka (дата обращения: 27.01.2021). 28. Омран А. Р. (1977). Эпидемиологический аспект теории естественного движения населения // Проблемы народонаселения. О демограф. проблемах стран Запада / под ред. Д. И. Валентея, А. П. Судоплатова. М.: Прогресс.
28. Омран А. Р. (1977). Эпидемиологический аспект теории естественного движения населения // Проблемы народонаселения. О демограф. проблемах стран Запада / под ред. Д. И. Валентея, А. П. Судоплатова. М.: Прогресс. 29. Hsiao, H. Fall prevention research and practice: a total worker safety approach / H. Hsiao // Industrial Health. - 2014. - Vol. 52. - P. 381-392.
29. Hsiao, H. Fall prevention research and practice: a total worker safety approach / H. Hsiao // Industrial Health. - 2014. - Vol. 52. - P. 381-392. 30. Preston S.H. The Changing Relation between Mortality and Level of Economic Development // Population Studies. -1975. -Vol. 29. -No 2. -Pp. 231-248.
30. Preston S.H. The Changing Relation between Mortality and Level of Economic Development // Population Studies. -1975. -Vol. 29. -No 2. -Pp. 231-248. 31. Rao P.S., Darlong F., Timothy M., Kumar S., Abraham S., Kurian R. Disability adjusted working life years (DAWLYs) of leprosy affected persons in India. Indian. J. Med. Res. 2013; 137 (5): 907-910.
31. Rao P.S., Darlong F., Timothy M., Kumar S., Abraham S., Kurian R. Disability adjusted working life years (DAWLYs) of leprosy affected persons in India. Indian. J. Med. Res. 2013; 137 (5): 907-910. 32. Rehm J, Gmel GE Sr, Gmel G. et al. The relationship between different dimensions of alcohol use and the burden of diseasean update. Addiction 2017;112:968-1001.
32. Rehm J, Gmel GE Sr, Gmel G. et al. The relationship between different dimensions of alcohol use and the burden of diseasean update. Addiction 2017;112:968-1001. 33. Revich, B. Climate change and zoonotic infections in the Russian Arctic / B. Revich, N. Tokarevich, A. J. Parkinson // Int. J. Circumpolar Health. - 2012. - Vol. 71, № 1. - P. 18792.
33. Revich, B. Climate change and zoonotic infections in the Russian Arctic / B. Revich, N. Tokarevich, A. J. Parkinson // Int. J. Circumpolar Health. - 2012. - Vol. 71, № 1. - P. 18792. 34. Revich, B. Excess mortality during heat waves and cold spells in Moscow, Russia / B. Revich, D. Shaposhnikov // Occup. Environ. Med. - 2008. - Vol. 65, № 10. - P. 691-696.
34. Revich, B. Excess mortality during heat waves and cold spells in Moscow, Russia / B. Revich, D. Shaposhnikov // Occup. Environ. Med. - 2008. - Vol. 65, № 10. - P. 691-696. 35. Revich, B. Temperature-induced excess mortality in Moscow, Russia / B. Revich, D. Shaposhnikov // Int. J. Biometeorology. - 2008. - Vol. 52, № 5. - P. 367-374.
35. Revich, B. Temperature-induced excess mortality in Moscow, Russia / B. Revich, D. Shaposhnikov // Int. J. Biometeorology. - 2008. - Vol. 52, № 5. - P. 367-374. 36. Rice D.P. The economic costs of alcohol, drug abuse, and mental illness / D.P. Rice. -San Francisco, CA: University of California at San Francisco, 1990.
36. Rice D.P. The economic costs of alcohol, drug abuse, and mental illness / D.P. Rice. -San Francisco, CA: University of California at San Francisco, 1990. 37. Roberts, S. E. Fatal work-related accidents in UK merchant shipping from 1919 to 2005 / S. E. Roberts // Occup. Med. (Lond). - 2008. - Vol. 58, № 2. - P. 129-137.
37. Roberts, S. E. Fatal work-related accidents in UK merchant shipping from 1919 to 2005 / S. E. Roberts // Occup. Med. (Lond). - 2008. - Vol. 58, № 2. - P. 129-137. 38. Robertson, L. S. Causes and prevention of motor vehicle injuries / L. S. Robertson // Epidemiology. - 2004. - Vol. 15, № 3. - P. 350-351.
38. Robertson, L. S. Causes and prevention of motor vehicle injuries / L. S. Robertson // Epidemiology. - 2004. - Vol. 15, № 3. - P. 350-351. 39. Rosenthal T. Geographic variation in health care. Annu Rev Med. 2012;63:493-509.
39. Rosenthal T. Geographic variation in health care. Annu Rev Med. 2012;63:493-509. 40. Ruger JP, "Review of Jeffrey D. Sachs', 'The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time,'" Global Public Health 2(2), 2007: 206-9.
40. Ruger JP, "Review of Jeffrey D. Sachs', 'The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time,'" Global Public Health 2(2), 2007: 206-9. 41. Sachs Jeffrey David. The Collapse of Russia's Economy. PBS,15 June 2000. http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/int_jeffreysachs.html#16 (по состоянию на 25.09.2020)
41. Sachs Jeffrey David. The Collapse of Russia's Economy. PBS,15 June 2000. http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/int_jeffreysachs.html#16 (по состоянию на 25.09.2020) 42. Scarborough P., Morgan R.D., Webster P, Rayner M. Differences in coronary heart disease, stroke and cancer mortality rates between England, Wales, Scotland and Northern Ireland: the role of diet and nutrition BMJ Open 2011;1: e000263 doi:10.1136/ bmjopen-2011-000263.
42. Scarborough P., Morgan R.D., Webster P, Rayner M. Differences in coronary heart disease, stroke and cancer mortality rates between England, Wales, Scotland and Northern Ireland: the role of diet and nutrition BMJ Open 2011;1: e000263 doi:10.1136/ bmjopen-2011-000263.
 |
Главное меню |
 |
Заглавие |
 |
Введение |
 |
Обсуждение |
 |
Заключение |
 |
Список литературы |
Текстовый Файл  |
|
Телефон: (4212) 30-53-11
«Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России»